Новое
- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения
- Положение не обязывает
- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»
- Блеск жизни Жульет Бинош
- Рыцарь второго плана
- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ
Аветисян Владимир. «У нас на Узоле». Сказы (продолжение)
15.09.2022
Тещина любовь
сказ
Вот заладили: кроссворды жизни решать – не щи хлебать, мол, — египетская работа! Полно-ка, браток, мы, чай, не Мирошки: по этим кроссвордам хоть самого чёрта в рогожку свернём и денег не возьмём! Не веришь? Загадаю тебе, любезный, простое словцо: родной человек – на четыре буквы?.. Скажешь, не ахти какая загадка: русский человек без родни не живёт, и уж слов на четыре-то буквы назовёт тебе с маху, — отец да мать, жена да брат, дядя да тётя… Сколь ещё-то, чай, угадал?!
Нет, милый, всё мимо! Бывает родня и ближе: кому от своих, а нам от чужих – тёща!
Вот-вот, братец, ты губки и надул – какая, мол, из тёщи родня: чирий и в боку сядет, да не родня, а тёща – та и подавно нашему слесарю троюродный кузнец!..
И то сказать, любезный, все мы друг дружке не чужие. На одно ведь солнышко глядим. А уж кто кому роднее, про то у нас, у добрых христиан, есть своя правда.
Откроюсь тебе, а ты уж мотай на ус. Нынче родня родне рознь: та, что живёт подальше, она и слаще, потому как больно-то не докучает и грехи твои не замечает; а деревенская родня вечно под боком, — куда ни кинь, ровно клин, — и не отмахнуться от неё, ни отпихнуться, ни стеной китайской отгородиться – всё равно достанет. Хоть отдай последний грош, а сам как хошь, всё равно нехорош; хоть век ты ей таскай в ладонях воду – всё не в угоду; а как увидишь своих, да много худых, так лучше б и без них, истинный крест!
То ли дело – тёща! Хоть из чужих, а за иную и своих дюжину отдать не грех! Бывает, и умом таровата, и добра полна хата – хошь, дыши, хошь пляши! А попадётся ещё и заботливая да любвеобильная – тут уж ты и вовсе князь. Возьмёт она тебя за руку да к груди своей приложит – слышишь, скажет, как сердечко-то бьётся, — ради вашего счастья, дорогой мой зятюшка! А сама к тебе бочком, – подталкивает, поддразнивает, обнадёживает: не робей, милок, за мной, как за каменной стеной!..
А чё ты фыркаешь-то, браток? Тёщу не захваливать? Уж чьи грехи зарыты, а тёщины все наружу?!
Батюшки, да нешто она у Бога ягнёнка съела? За что такая немилость: люди ходят – ничуть не слыхать, а тёща ступит – тут и брякнет и стукнет… Ай-ай, братец! Уж больно ты скор на суд да на разбор! Язык-от заливает, а голова и не знает. Ты вот послушай, что про тёщу мудрые-то люди бают.
У нас на Узоле умные-то люди сами зареклись, и другу и недругу заказали: тёщу не хаять, чур, заповедано! И тебе, золотой, присоветуют: хочешь, чтобы жизнь твоя удалась как туз к масти, наперво заведи себе две вещи: друга верного да тёщу мудрую. Всё! Тогда можешь хоть самому Богу ответ дать. А того лучше, как выпадет эти две вещи да и разом в одном человеке обрести. Вот тебе и родня, — роднее не бывает! Далеко бы нам не ходить, взять вон Афоню нашего, Сироткина: ровно такой случай и вышел.
Один был у Афони мил-сердечный друг, одна опора, одна симпатия в жизни – тёща его незабвенная, Ангелина свет-Павлиновна. Ах, не тёща – божья благодать! Ну, чистый ком золота, какой едва ли кому в жизни попадался! Уж как она умела зятя встретить да приветить, понять да пожалеть, а где и встать за него горой да оградить от лиха! Ах, сыщется ли где ещё такой характер – иной жене в пример бы поставить! И то сказать, ведь не поверят, чтобы тёща зятю милее жены, слаще родной матери была. Что ты! Живо-два надсмешку состряпают, сплетню сальную по дворам разнесут – мол, видано ли дело, люди-человеки, чтобы старушка в этакие-те годки с зятем-то лей-перелей, сливочки-переливочки?! Креста на них нет, вот что! Не брать бы греха на душу, чего не было, про то нечего и калякать. Иного от Павлиновны, покойный свет, и не видывали, кроме доброго привета и сердечной ласки – рука отсохни, и нога, коли не так! Теплом душевным была таровата. Мимо, бывало, не пройдёт, а спросит: всё ли, мол, подобру-поздорову? Как вас Господь милует? И выслушает, и поохает на ваши бедки, — и на радость найдёт слова, и на горе что ни скажет – хоть в евангелие вставляй! И уж напоследок непременно пожелает: жить да молодеть, добреть да богатеть! Так вот. Ласковое слово, знаешь, лучше мягкого пирога, и кому, браток, на добром слове не спасибо!
А уж какой она хозяюшкой была – изумление миру: её пироги да блины, её соленья да варенья, её вязанье да шитьё… Ах, всего не обскажешь, браток, слов таких нету. Тем и будь помянута, Ангелина свет-Павлиновна.
Жил у неё Афоня как у Христа за пазухой, — не ведал горя ни сном, ни духом. А оно, чёрно облако, подступило близко, опустилось низко, да и накрыло собою красно солнышко: легла тёща в могилку.
Эх, счастье людское, обманное да лукавое! Летишь ты на крыльях вешней зари вольной пташечкой: где журавлём промелькнёшь в синеве, где в роще соловьём обернёшься, а где и синицею на руку сядешь – то ли сон, то ли явь… Как удержать тебя, скажи на милость? Посулами ли щедрыми задобрить, тайным ли заговором в клетку золотую упрятать, чтобы владеть тобою до самого смертного часа?!
Не слышит пташечка: не дар она, не купля, — летит себе, летит и садится наугад: кому чин, кому блин, кому жену молодую, а кому и тёщу золотую! Владей, браток, да знай наперёд: недолго ведь счастье-то людское, и ему конец приходит. Мы и сами на этом свете в гостях гостим: сколько бы ни жить, а смерти всё одно не отбыть – карга нахрапом возьмёт, как уж ты не вертись! Из-за неё никто живой предела своего покамест не изведал.
Ах, Павлиновна, заботливая душа! Была на смертном одре, а всё у Бога милости просила, чтоб не отступился Он от зятя Афанасия, дабы и люди добрые его в беде не покинули. А зять-от, к чести сказать, сидел возле тёщи точно приклеенный, сжимал в руке её ладонь и тихо плакал. А как же, милый: хоть и страшна смерть, а предстать на светлы Господни очи всегда легче, если рядом слышишь дыхание родного человека.
Лежала Павлиновна тихо, не ела, не пила, высохла вся до костей – освободилась от грешного тела и ушла в тот мир, как праведница. Правда, глаза так и не закрыла, будто на жизнь эту не нагляделась, на зятя любимого… А как увидели это богомольные старушки, не на шутку переполошились: свят-свят, мол, дурная примета – покойница высматривает ещё кого-то… Кинулись, пощупали ей ноги – теплы! Ну, так и есть, — зовёт за собою… Чай, зятя дорогого, кого ж ещё-то? Свят-свят-свят!!!
Как дошёл этот шепоток до Афони, так у него рожа по шестую пуговицу вытянулась – струхнул, видать, крепко, глазами хлопает и чуть не плачет.
Принесли гроб, уложили покойницу – ан! – и гроб-эт не в меру велик… Мать честная, не ругал бы да заругаешься: ведь та же примета – быть ещё покойнику в доме!.. И все, как один, упёрлись глазёнками в Афоню.
Обливаясь слезами, вынес Афоня постель тёщи в курятник – ну, чтобы петухи опели. Глядь, за ним тишком да гуськом старушки почесали. Обступили курятник, в щели заглядывают да тяжело постанывают, будто кто их муками адскими пытает. Ясное дело: охота посмотреть, как зятёк от горя в петлю полезет. Господи, страсти-то какие! Дошло до Афони, он и психанул – хвать за вилы да во двор: а ну, геть, старые перечницы, не видать вам такого бальзама!..
Отхлынули старушки, покряхтели, потоптались: ну, милай, коли ты тово, так и мы тово: а коли ты не тово, так и мы не тово, — и засеменили прочь не солоно хлебавши. Зато на похоронах увязались, аж спасу нет: ты, мол, соколик, не забудь натереться против сердца землицей из могилки, чтоб уж не больно-то жгло; а ещё и водицы полей на могильный крест-от, чтоб уж недолго тосковалось по усопшей… Только у Афони на это уши залегли, — чего не хочет, того не слышит. Ему ли не убиваться, ему ли не причитать о христовой благодати, которой он лишился навеки…
Ох, и крепко тужил зять, все глаза выплакал; легко ли, браток, — из светлого рая да на грешную землю! Но, как говорится, по земле и вода: жизнь она человека укатает, что тебе галечку в речном потоке. И всякая могила травой зарастает.
Как похоронил Афоня тёщу, так счастье из дома ровно выдуло: с женой пошли ссоры да раздоры – один рычит да лает, другая брюзжит, как муха в осень, — так вот и метут в два веника.
Не всякому, браток, выпадает Марья, это кому Бог даст; Афоне отломилась Альбина Львовна, — не баба, сущий бес в юбке да при высокой должности – местная политическая голова.
Тот муж скажи семье конец, коль баба у него в начальстве: ей и дома с командирской лошадки не слезть – ни детей родить, ни хозяйства завести, ни мужа обласкать, — так и ходит барыней, в шелках да в духах, глядит козырем и ломается, что тебе арзамасский воевода. Зря бают, мол, у нас не в Польше, муж жены больше. Куда там! Раз баба твоя в политике, ты, браток, уже не муж: скажешь ей слово, она тебе три влепит; ты ей вдоль, она поперёк, ровно сам чёрт ею вертит. Ну, плюнешь да отойдёшь.
Политика, браток, — тухлое яйцо: разобьёшь невзначай, так одна только вонь. Нынче на политиков народ зол – и левых, и правых материт с угла на угол: не видали от них ни проку, ни радости – грызня да пустые обещанья – вот, мол, скоро под гору съедем, потом в гору взвезём, а по гладкому покатимся… На деле же одно получается: сам буду в хоромах, а тебя по миру пущу! Ох, бывало, заспорит Афоня со своей мегерой: раз, мол, ты наш рулевой, скажи, куда у нас страна-то катится? Пыхтит Альбина, дуется, к лицу кровь приливает: мол, для тебя же, быдло, стараемся, пробуем жить по-ихнему…
Выходит, раньше жили по-нашему, теперь пробуем по-ихнему: получится – квас, не получится – кислы щи… Эх, милка, нахлебались мы кислых щей досыта. Охота на своих именинах и пирога бы съесть, а то и винцом хорошим запить! Где уж там – только заикнись про вино-то, — готов разнос: уж и алкаш ты алкаш, уж по тебе ли, плебею чумазому, — пава белолицая, голова политическая!
Ну, стерпишь ли такое унижение! Ах, тёща золотая, не ной твоя косточка во сырой земле, сюда бы сейчас твою мудрость да ласку; уж ты бы враз остудила мегеру! Только не вернуть уж тех дней: было житьё — еда да питьё; а нынче – как встал, так и за вытьё. Чего уж хорошего-то? И решил однажды Афоня: брошу я свою политическую, — пущай ест змея свой хвост! Лёг он с этой думкой в постель, и дрёма уж было разломила его… Только чу! – слышит: шох да шорох, ух да тюх-тюх – подушка под головой, ровно мешок с бесями, завертелась, и голос из печной трубы: эгей, мол, отворяйте! — мор не топор, гроб не притвор, вылетаю на просто-о-о-ор!!! Замер Афоня, навострил уши: будто стон многоголосый из-под земли исходит… Эвона, думает, заноза, уж не врата ли адовы настежь распахнулись?!
Вдруг молния шарахнула, отозвалась громом, и хлынул ливень с пеной. Звон колоколов над всей землёй, песок взошёл по камню, с неба огонь сыплется… То сонмище архангелов с трубами на землю слетает… Изба ходуном ходит, половицы скрипят, в окнах стекла дребезжат и стонут. И вдруг — двери настежь: в дом со свистом вкатывается виденье огненное… Глянул Афоня и обмер: Она… Павлиновна, покойница! Ровно её водой принесло: лицо пылает молодым румянцем, труба архангельская в руках, а за спиною крылья золочёные – ну, Птица Сирин!.. Вперила в зятя пылающие очи, играет тёмной бровью: талан на майдан моему сиятелю, сахару белому Афанасию! Всё ли подобру-поздорову?..
Афоню затрясло: ущипни, говорит, матушка, ты ли это? Мы же тебя вроде упестовали на вечный покой; нешто мёртвые с погоста сходить стали?
Отвечает ему тёща ласковым голосом:
— Знай, милый зятюшка: не всякий на погосте – мертвец; это злым – смерть, а добрым – воскресение и вечный Иерусалим!
— Стало быть, ты жива, матушка?..
— Жива-то жива, зятюшка, да тельце больно ломит: скрутил могильный холод, — страсть, как хочется тепла! И на том свете прельщает нас мир житейскими сластьми. Але мы хуже людей, что в гробу лежим? Истопил бы ты, зятюшка, баньку да хорошенько попарил бы меня веничком… Але не уважишь тёщу-то?
— Да хоть сейчас, матушка! – воскликнул Афоня и с пылу кинулся, было, обнять её — только руками хвать – ан! – тёщи и нет, — рассыпалась, будто клад от аминя. – А-у, матушка, нешто пригрезилась?
Глядь, а та из-за печки выходит, пыль смахивает: забыла, говорит, признаться тебе, милый зятюшка, что отныне меня страж Тьмы стережёт, — атамана Шемяки гайдук Евстафейка; уж он мне лишнего не позволит.
— И где твой страж-от, матушка?
— Невидимый он, стоит за спиною, холодными лапами стиснул мне груди…
— А что он хватает, где ему не положено?! – возмутился Афоня.
Тут и захихикал невидимый гайдук: зять, мол, ты и сам не прочь похватать, да руки коротки.
Разлучили вас заступ да лопата; теперь тёща с тобою – как рыба с водою: ты ко дну, она на берег; ты за ней — она ко дну! Оставайся здорово, да наживай себе друга иного, а нам пора обратно!
Бухнулся Афоня на пол: прости, говорит, любезный сердцу Евстафеюшка, дай обмолвиться с тёщей, другой такой души уж не найду я в этой жизни!
Вздохнул страж Тьмы: ладно, мол, валяй, да только руки не распускай. Подсел Афоня к тёще: рассказала бы, матушка, как уж ты там живёшь-можешь?
— Что тебе сказать, души моей приятель, живу как в перинке – не просторно да улёжно… Встать бы да выйти – деревянный тулуп не даёт. А нынче мне голос был: раба Божья Ангелина, мол, душа твоя жива, встань, говорит, сотвори крёстное знамение и ступай на свет Божий!.. Ну, я так и сделала, и, веришь ли, тулуп-от с меня ровно пушиночку сдуло! Вскочила я и прямиком сюда – на солнышко ясное взглянуть! Вижу, милый зятюшка, не очень ты весел, але горе тебя пригнуло?
Афоня в слёзы: угадала, говорит, матушка, камень у меня на сердце, — затиранила мегера моя, глава администрации! Жизни никакой нет от этой главы! Вот и надумал я, матушка отступиться от неё, разойтись, Что ты мне присоветуешь?
— Пристало ли живым у мёртвых совета просить?
— Ты мне живее всех живых, святая душа: как скажешь, так и сделаю!
— Нет, голубь, упустил ты в своё время вожжи, а теперь надумал за хвост управить. Тут я тебе не помощник: жену с мужем Бог разбирает…
Ровно в полночь земля загудела пуще прежнего, и ветер в окнах засвистел, и двери в избу снова настежь – шумным табором в дом ввалились с того света выходцы, — вурдалаки, бесы, лешие. За ними и сам Князь Тьмы, атаман Шемяка – голова с пивной котёл, полымя из ноздрей, пар из ушей, в руках коса, дыбом волоса:
— У-у-ух! Подайте мне сюда эту шатунью! – ревёт он и вокруг пустыми глазницами шарит.
Верещат с того света выходцы: вот она, которой не лежится ей в гробу, дери её на кусочки! – и указывают костлявыми пальцами на шатунью.
У тёщи и бровь не дрогнула: что ты ухаешь, морда, але живьём проглотить хочешь?! Смотри, не поперхнись, не на такую напал!
Опешил атаман – не ждал от бабы такой рыси:
— Говори правду, шельма, чего тебе в гробу-то не лежится?!
— К зятю любимому наведалась, вот и вся правда, — спокойно ответила тёща.
Ощетинился Князь Тьмы, закашлял, зачихал:
— Это Сидорова правда, а у меня Шемякин суд: твой грех – моя расправа! И баста!
Тут брызнула из ноздрей чудища мёртвая вода, окропила тёщу с ног до головы – подхватили её бесы под белы ручки да золочёные крылышки: эх, мол, соколики, рви кочки, ровняй бугры, держи хвосты козырем! – и вылетели в распахнутую дверь. За ними двинулся и Князь Тьмы со всей подземной ратью.
Выскочил Афоня на порог, кинулся атаману в ноги: пощади, мол, Шемяка-князь, откуплюсь за тёщу чем только ни пожелаешь! Остановился Шемяка: значит, это из-за тебя, мол, покойница нарушила Закон Тьмы? Слышишь, ад стонет и рыдает, её к себе призывает? Коли мертвец, лежи там, где положили. А самовольно шляться где попало – это, брат, хуже кислых щей на именинах. Так у нас все клиенты разбегутся. А без них, сам понимаешь, вся наша подземная контора пойдёт под сокращенье. Ты уж не повини: отправил я тёщу твою на муки адовые – пусть другим неповадно будет!
— Погоди, князь, давай сторгуемся по-хорошему, — поднимается с колен Афанасий. – Возьми мою душу как выкуп, да и отпусти с миром тёщу мою золотую. Заслужила она не муки адовые, а райскую жизнь и вечный Иерусалим!..
Наутро всё те же старушки нашли Афоню в курятнике: удавился зятёк-от!
И веришь ли, браток, в народе на эту смерть вздохнули с облегчением: сбылись все приметы; ровно свершилась высшая справедливость, снизошла Божья благодать… А иначе и быть не могло: тёщина любовь сильнее смерти!
Хворь
сказ
Народ-от ныне исхворался весь. Глядишь, то одна зараза пристанет, то другая с ног валит. Спасения нет, скажу я вам: хворого пост, а пьяного молитвы до Бога не доходят! Так вот горбатишься всю жизнь, гробишь своё здоровье, чтобы заработать эти чёртовы денежки, а потом отдаёшь их, чтобы вернуть здоровье, — авось, успеешь ещё заработать… Ан, нет! Иной раз так скрутит – волей-неволей притопаешь в больницу. Заглянешь в окошко регистратуры – мол, голубушка, как бы к врачу на приём… А тебе в ответ как помоями в харю – ну, вот, мол, только вас нам и не хватало! Люди уж совсем потеряли совесть: нет бы дома у себя похворать, — обязательно припрутся врачам нервы трепать!
Веришь ли, век бы не видеть этих больничных порогов! Да не в нашей это воле. И в Писании сказано: не здоровые имеют нужду во враче, но больные… Только легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем прихворнувшему человеку прорваться к врачу, – истинный крест говорю! За день набегаешься по коридорам, да в очередях до одури простоишь, а к вечеру без сил притопаешь домой, проклиная всю эту медицину!
Но Господь, как говорится, одну дверь закрывает, а другую открывает: ведь на этих больницах свет клином не сошёлся – есть кроме них и народные целители… Благо, развелось их повсюду, ровно собак нерезаных! Молитвами, заговорами да травами лечат. Пусть дело хворо, да скоро!
Про лекарку Мокеевну из Виткулова уж давненько слава-то идёт. Никаких гимназий баба Люба не кончала, лечит своим знахарским методом, зельями да отварами. По её разумению, вечно болеют одни дураки, распутники да лентяи. А у путных людей все хвори, считай, – от нервов, а пуще – от живота. Где, мол, пиры да чаи, – там хвороба да немочи. Вот так-то! И ведь что ни прослышишь, доверяют ей люди, идут к ней, излечиваются – быстрее и лучше, чем у всяких врачей!
Чудесам врачевания деревенской лекарки находили одно объяснение: она лечит словом. И даже те, на которых врачи уж давно махнули рукой, идут на поклон к Мокеевне. Кому, браток, охота дохварывать остаток жизни в какой-нибудь в богадельне, когда есть хотя бы крохотный свет в окошке – лекарка Мокеевна! Ну, они и прямиком к ней.
Встречает их Мокеевна ласково да с улыбкой, – мол, рановато вы смерти ищете, не всяк умирает, кто хворает. Да и хворь-то нам даётся не зря: без неё и здоровью не будешь рад! Ну, коль уж захворал, надо жаждать духа, а не лекарств. Наше тело – сад, а дух – садовник! Жив человек, жива и душа его!
Расположит, успокоит – ну, люди и выкладывают ей свои горести: и какая у них есть вина перед Богом, что едят и что пьют, докучают ли враги, радуют ли дети… Вот так, покалякает Мокеевна, выяснит для себя причину хвори – то ли она у человека от еды приключилась, то ли от душевных мук завелась, а то, может, и какой дурной глаз порчу навёл?.. А как же! У хорошего знахаря лекарства не в аптеке, а в его собственной голове! Всё выяснит, тогда и приступает к лечению, богу молясь. Первым делом заставляет голодать… Иной перетрусит, мол, бабка ты меня убьёшь… А Мокеевна ему суёт свои травные отвары – пей, мол, и не думай о плохом! Повесит ему ладанку на шею, да заговоры почитает…
Проходит денёк-другой, глядишь, смерти и в мыслях нет, больной о живом думает!
Удивляются врачи: помилуй, матка, у нас и учёные головы, и медицинские аппараты, и лекарства всякие, да только вылечить не можем, а ты без ничего людей на ноги ставишь! Откройся, Христа ради, как же это у тебя получается?
— Ишь, какие быстрые, всё вам вынь да положь, — хитро улыбается Мокеевна. – А секрет простой: вы, учёные, головы кручёные, делаете всё по-своему, а я, вот, по-божьему!
И эти слова её хоть в Евангелие вставляй.
— А как по-божьему-то, матка? Але уколов человеку не делать? Але не оперировать его, лекарств ему не давать, – тони моя котомка, да будь я на берегу?..
Мокеевна помалкивает в тряпочку. А чего зря-то калякать, – вы, дескать, по-вашему, а мы по-нашему. Пусть у вас и головы учёные, и аппараты мудрёные, и лекарства всякие, а только веры нет ни в чём, и душевного обхождения с человеком нет. А у знахарки свои припарки, и она верит: жив Бог, жива душа моя. Вот и весь секрет. С человеком надо по-хорошему, – ласковое слово и душевные раны лечит! Поговорить бы, расспросить, какого он роду-племени, как его Бог милует, что ему любо, а чего он и на дух не переносит… Глядишь, хворь-то в человеке сама на себя и укажет!
Взять, вон, нашу именитую певицу, Примадонну, – с нею ровно такой случай и вышел! Разнесло её как-то, ни с того, ни с сего – гляди, вот-вот лопнет!.. Уж скольких врачей обошла, и все в один голос: поздно, болезнь уже в запущенной стадии, песенка её спета… Ну, певица и поверила, смирилась; объявила всем, что уходит со сцены. Но тут кто-то присоветовал ей показаться знахарке Мокеевне из Виткулова.
Попытка не пытка; лечащие врачи привезли Примадонну в глухую деревню, к Мокеевне. Вот, мол, тебе, лекарка, задача: поставишь нашу певицу на ноги, проси чего хочешь, ни в чём тебе отказа не будет!
– А что у неё? – спрашивает Мокеевна. Ей на ухо и шепнули, мол, всё гнило…
Осмотрела лекарка певицу, пощупала у неё живот, груди, ягодицы, и говорит:
– Вам гнило, а нам мило! – Оставляйте мне её на месяцок – а там поглядим.
– А навещать-то её можно? Ну, продукты из города привезти, фрукты…
– Месяцок сюда ни ногой!.. – отрезала Мокеевна.
– Как скажешь, матушка.
Уехали столичные гости, и Мокеевна взялась за дело.
В первую очередь надо было отвернуть эту барыню от выпивки, – любила певица пропустить рюмашку-другую под хорошую закуску да в хорошей компании. Чего уж там вытворяла над нею Мокеевна, лишь один Господь ведает. Люди бают, мол, крепко она помучила бедняжку. Держала в чёрном теле, есть давала только квашеную капусту да тёртую морковь с мёдом, – мол, правильно лечит тот, кто правильно кормит, ибо пища наша должна быть лекарством, а лекарство – пищей! А уж рассказать, как она цельными днями водила её по лесам, по долам, через реки да топкие болота… У певицы после таких прогулок аппетит открывался зверский – быка бы жареного съела! А Мокеевна ей -горький травный отвар, а потом хреном все тело обмажет, да погонит в баньку – томиться на можжевеловом пару… После таких процедур засыпала наша певица на сеновале без задних ног…
С первыми петухами Мокеевна снова поднимала свою подопечную, совала ей в руки вёдра да посылала за ключевой водицей; этой же водицей окатывала её с ног до головы, потом ставила бедняжку на колени перед образами Богородицы и заставляла молиться.
— Богородица-дева, радуйся…Благословен плод чрева твоего… — исступленно повторяла певица, и ей казалось, что тело само подсказывает, как и что надо делать!..
Пролетел обещанный месяц как один день; наезжает в Виткулово родня певицы, а с нею и консилиум врачей. Ну, мол, государыня-знахарка, чем порадуешь?
Выводит Мокеевна свою именитую подопечную в горницу…Глянули гости и глазам своим не верят: Примадонна-то ровно помолодела, — бодра, румяна, весела, вся так и светится здоровьем!.. Они-то, небось, порешили, что певица уже не жилец на этом свете… А, гляди-ка, Царевна-Лебедь!..
Ай да Мокеевна! Да как же ты сумела-то, матушка, за один-то месяц?
— Не спрашивайте, любезные, что да как, – это я доложу лишь Господу нашему, когда явлюсь пред Его светлы очи…
Пожали плечами учёные головы да руками развели. Родня на радостях отвалила кучу денег, да Мокеевна их не взяла. Пусть, мол, поёт, да людей радует, и меня не поминает лихом! Растроганная певица бухнулась ей в ноги да руки целовала…
Да что там певица, у Мокеевны таких историй – тыща! Чай, слыхали про Ваксею Кирилловну из Тумботина! Выглядела бедняжка ровно старый дубовый шкаф: двери не пролезала, да и одежды на её размер ни в каком магазине не купить… И смех, и грех! Уж скольких врачей обошла, – не помогло. Ну, привезли её к Мокеевне. Глянула лекарка на её распухшее лицо, пощупала отвисшее пузо, тучные ягодицы, да сразу и говорит: у тебя, милая, все хвори – от живота.
И ведь прямо в точку!..
Ох, и здорова же была эта Кирилловна брюхо себе набивать: не могу, не могу, а ем по пирогу! Не утерпеть ей без еды, – жрала всё подряд! Прослышит, где похороны, или поминки, или какой стол с едой, она уж там – как, мол, на халяву да не поесть!? Лопни пузо, да не пропадать добру! И враз нападает, как свинья на барду… А потом, глядишь, лежит-неможет: ой, люди добрые, спасите, помираю! Тут наспех «скорую» вызывают, да каждые полчаса по уколу…
Ну, Мокеевне это не впервой. Только взяла с неё клятву: чур! – слушаться и выполнять всё, что будет сказано!
Подаёт она Ваксее десять луковиц, велит их почистить как можно медленнее, чтобы, значит, слёзы у неё ручьём текли. Ну, почистила она эти луковицы, всё лицо в соплях… Чего дальше-то?
— А теперь ешь, – приказывает Мокеевна. – Это для изгнания глистов…
И так каждый день она заставляла пациентку съедать натощак три-четыре луковицы. Та ела, при этом не переставала вытирать сопли да выдавать чих за чихом!
— Доброго здоровьица! – отвечала на каждый чих Мокеевна. – Лучок-от, матка, всем болезням враг: снижает давление, хорошо излечивает геморрой и гастрит… А уж против ожирения, отложения солей в суставах, почечнокаменной болезни – наиперевейшее средство! Скоро и сама почувствуешь.
Через недельку бедняжку Ваксею уже воротило от одного лукового запаха… Но Мокеевна настаивала: «Терпи, матка, терпи, Господь с тобой!» — и продолжала давать ей свежий сок лука, смешанный с медом, приговаривая, что это помогает при неврастении, бессоннице и ревматизме. Печёный лук прикладывала к фурункулам, бородавкам и мозолям на её ногах, а свеженарезанный – к вискам; головную боль у Ваксеи как рукой снимало, а фурункулы, мозоли и бородавки постепенно стали исчезать…
— Вот такая моя луковая наука, матка!
Как прознали в округе, чем излечилась Ваксея Кирилловна, тут все тучные бабы и налегли на луковый рецепт Мокеевны: наедались этого луку и прямиком в баню! Но у Мокеевны была одна хитрость, о которой она умалчивала. После баньки нельзя лежать – хуже разломает. А лучше устроить дискотеку! Вот и к Кирилловне она пристала с этой дискотекой: давай, давай, мол, шевелись, – подвигаешь задом, потрясёшь кишки, выпустишь дурной воздух, и хворь с тебя сойдёт, истинный Христос говорю!..
Бывало, охает бедняжка Кирилловна: какая из меня дискотешница, и шагу-то не ступить без боли!.. Только Мокеевна её и слушать не хочет:
— Вот, Ваксея, специально для тебя включаю Верку Сердючку: «А я иду, такая вся – дольче-габана…»
— Какая «дольче-габана», побойся Бога, от неё я уж точно копыта откину!
— Ты, Кирилловна, давно ли к сердцу своему ухо прикладывала? А ведь что ни болит, всё к сердцу велит. Вот оно у тебя и пошаливает…
— Ох, пошаливат, спасу нет, как пошаливат…- жалуется Кирилловна.
— Значит, инфрахта тебе не миновать! Так что слушайся меня. С гипертонией, матка, плохие шутки. Сердце плохо лечится, и запчастей для него Бог не создал. А вот лук как раз сердцу друг – давление снимает, жир разгоняет, кишки очищает…
— Ты мне прямо скажи, матка, вылечусь ли я от этой хвори?
— Вылечиться-то можно от всего, кроме смерти… Главное, в больницу не попадать. Пока ещё на ногах – жива, а как сляжешь, уж точно, пиши, пропало! Ты уж прости, Бога ради, что я так мучила тебя, — испытывала, узнать хотела…
— И чё узнала?
— А то и узнала, что сама ты поверила в своё излечение, значит, хворь твоя отступит! Такой у хвори трусливый норов, истинный Христос говорю!
Аветисян Владимир
Иллюстрации: Георгий Инешин











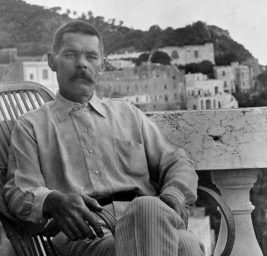



















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ