–Э–Њ–≤–Њ–µ
- –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –†–∞–і–Є—Й–µ–≤, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї, –њ–Њ—Н—В, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–Є–є –і–µ—П—В–µ–ї—М —Н–њ–Њ—Е–Є –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П
- –Ъ–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ —Г–Љ—Л. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ–µ
- –Ф–µ–љ—М –Ї–Њ—Б–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Ї–Є –≤ ¬Ђ–®–Ї–Њ–ї–µ –®–µ—А–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї
- –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –У–∞–Ј—Г–Ї–Є–љ–∞: –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Є—А–∞–Љ–Є
- –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В
- –Т –Х—Б–µ–љ–Є–љ-—Ж–µ–љ—В—А–µ вАУ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–Є ¬Ђ–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є¬ї
–Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–Є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞
05.02.2023
–≠—Б—В–µ—В–Є–Ї–∞ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± –Є–і–µ—П—Е. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–µ–є –≤—Б–µ –≤–µ—Й–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ—Л –Љ–Є—А—Г –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ–≥–Њ (–Љ–Є—А—Г –Є–і–µ–є), –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –µ–Љ—Г –і–ї—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞: —П–≤–љ—Л–є –Њ—В—Б–≤–µ—В –Є–і–µ–є –љ–µ—Б—Г—В –љ–∞ —Б–µ–±–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є.
–Т. –Р—Б–Љ—Г—Б –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї—Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, —В.–µ. —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –±—Л—В–Є–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї¬†[–Р—Б–Љ—Г—Б, —Б. 173].
–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–Є–ґ–і–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ–Љ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–µ, —З—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ —Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ —Б—Д–µ—А—Г –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А—Г –±—Л—В–Є—П. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –Р.–§. –Ы–Њ—Б–µ–≤: ¬ЂвА¶ —Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–ЊвА¶ –љ–µ –µ—Б—В—М –љ–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Є –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ, –љ–Њ –љ–µ—З—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Є¬† –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ-–Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є –Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤¬ї [–Ы–Њ—Б–µ–≤, —Б. 318]. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ґ–µ, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–µ –Є–і–µ–є, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–∞–Є—В–Є—О –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї—ЛвА¶¬ї [–Ґ–∞–Љ –ґ–µ]. –Ґ.–µ. —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ–Ј–Є—Б –Є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ—Л, –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ вАУ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞.
–Т ¬Ђ–Ш–Њ–љ–µ¬ї –Я–ї–∞—В–Њ–љ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В–µ–Њ—А–Є—О —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞—П –∞–Ї—В —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ –∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ–±—Г–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Я–ї–∞—В–Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В ¬Ђ–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Њ—Б–Њ–±—Л–є –≤–Є–і –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ–Љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї—Г –≤—Л—Б—И–Є–Љ–Є –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —Б–≤–Њ–µ–є, –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –љ–Є –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г, –љ–Є –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г вАУ –ї–Є–±–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є¬ї.
 –Э–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—П –љ–∞ –∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Г–Љ–Њ–Є—Б—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ¬ї —Г–Љ–∞ —Г–≥–∞—Б–∞–µ—В, –∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞—О—В –∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—В—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г —Г –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ы—О–±–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ вАУ –±—Г–і—М —В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —В—А—Г–і (–≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —З–µ—В–Ї–∞—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М) вАУ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї —Г–Љ—Г. –£–Љ, –Љ–Њ–Ј–≥, –≤–µ—А—И–Є–љ–∞ —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞,¬†— –≤–Њ—В —В–Њ—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г¬ї¬†[–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤. –Ы–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, —Б. 26]. Ratio, —Г–Љ, —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –≤—Б–µ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г—В–Њ–µ, –≤–Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ (–Ї–∞–Ї —Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, —В–∞–Ї –Є —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П). –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –Р—А—М–µ–≤, ¬ЂвА¶ ¬Ђ–Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞¬ї –≤—Л–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Є–Љ –Є–Ј –Ї—А—Г–≥–∞ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–є. –Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ ¬Ђ—В–µ–њ–ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Њ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В ¬Ђ—З–Є—Б—В–µ–є—И–Є–є –Є —Б–∞–Љ—Л–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї — ¬Ђ—А–∞—Б–њ—Г—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є¬ї, –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є —Б—Г–і—М–±—Л —В–≤–Њ—А—Ж–∞¬ї [–Р—А—М–µ–≤, —Б. 188].
–Э–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—П –љ–∞ –∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Г–Љ–Њ–Є—Б—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ¬ї —Г–Љ–∞ —Г–≥–∞—Б–∞–µ—В, –∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞—О—В –∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—В—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г —Г –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ы—О–±–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ вАУ –±—Г–і—М —В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —В—А—Г–і (–≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —З–µ—В–Ї–∞—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М) вАУ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї —Г–Љ—Г. –£–Љ, –Љ–Њ–Ј–≥, –≤–µ—А—И–Є–љ–∞ —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї–∞,¬†— –≤–Њ—В —В–Њ—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г¬ї¬†[–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤. –Ы–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, —Б. 26]. Ratio, —Г–Љ, —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –≤—Б–µ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г—В–Њ–µ, –≤–Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ (–Ї–∞–Ї —Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, —В–∞–Ї –Є —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П). –Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –Р—А—М–µ–≤, ¬ЂвА¶ ¬Ђ–Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞¬ї –≤—Л–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Є–Љ –Є–Ј –Ї—А—Г–≥–∞ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–є. –Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ ¬Ђ—В–µ–њ–ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–µ—В—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Њ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В ¬Ђ—З–Є—Б—В–µ–є—И–Є–є –Є —Б–∞–Љ—Л–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –∞–Ї—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї — ¬Ђ—А–∞—Б–њ—Г—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є¬ї, –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є —Б—Г–і—М–±—Л —В–≤–Њ—А—Ж–∞¬ї [–Р—А—М–µ–≤, —Б. 188].
–Т–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Н—В—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, –Є —Н—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і—Л —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Ш —В–∞–Љ, –Є —В–∞–Љ –Њ–љ–Є, –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ—Л –њ–Њ —Б—Г—В–Є.
–Т ¬Ђ–§–µ–і—А–µ¬ї —В–µ–Њ—А–Є—П –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—З–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ вАУ —Б —В–µ–Њ—А–Є–µ–є –Є–і–µ–є. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—Г—В—М, –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Њ—В –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г –Љ–Є—А–∞ –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ —Б –њ–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ—А–Њ–Ј—А–µ—В—М –≤ –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–µ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Ј–љ–∞–Ї–Є ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ¬ї. –Я—А–Њ–Ј—А–µ–≤ –ґ–µ, –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—П–љ–Є–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —Н—В–Њ—В –њ—Г—В—М, –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Ї –Љ–Є—А—Г –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —З–µ—А—В–∞—Е —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї–∞ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –љ–Њ—Б–Є—В —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т–ї–Є—П–љ–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –љ–∞ —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї—Г –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—А–Є—П—В–Є–Є –Є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Г—З–µ–љ–Є—П –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞ –Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ:
1) –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–≤–µ—А—Е—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ;
2) –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–∞—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Ї–∞–Ї –Њ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –Њ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –≤—Л–Ї–ї—О—З–∞—В—М—Б—П –Є–Ј –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
–Р–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Њ–±–Љ–∞–љ–∞ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ ¬Ђ–Ф–∞—А¬ї
–Ю —В–Њ–Љ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Б—В–∞–≤–Є–ї —Н—Б—В–µ—В–Є–Ї—Г –Њ–±–Љ–∞–љ–∞, –Є–і–µ—О –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ—Г —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В.
–†–∞–Ј—Г–Љ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –∞–њ–µ–ї–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –µ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ, –∞ –љ–µ –Ї –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ –і—Г—И–Є –Є —Б–µ—А–і—Ж–∞, —А–∞–Ј—Г–Љ ¬Ђ–њ–Њ вАУ –љ–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є¬ї, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ –≤—Л–Љ—Л—Б–ї—Г, ¬Ђ–њ–Њ –Њ–і–љ—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–±–Њ—Б—В—М ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї, –њ–Њ –і—А—Г–≥—Г—О вАУ –±–µ—Б–њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ¬ї [–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤. –Ы–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, —Б. 170]. –Ф–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ—В–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є ¬Ђ—Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ—Б—П–Ј–∞–µ–Љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї—М, –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≤ –≤—Л–Љ—Л—Б–ї–µ, –∞ –љ–µ –≤ –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ¬ї [–Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 174].
–Э–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л–Љ—Л—Б–µ–ї –і–ї—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ—А–Є–µ–Љ, —Н—В–Њ –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –њ–Є—И—Г—Й–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –і–љ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–Љ. –°–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ—В—М –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г.
–Ъ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –ї–Є—И—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ф–Р–†–Ю–Ь, –Ї–∞–Ї–Є–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–ї–∞–і–µ–µ—В –§–µ–і–Њ—А –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤-–І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ –Є–Ј —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ ¬Ђ–Ф–∞—А¬ї. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ґ–µ –ї—О–і–µ–є, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, ¬Ђ–ґ–Є–≤—Г—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–Є –µ–µ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ—П–Ї–Њ–Љ –Є–Ј —Д–Њ—А—В–Њ—З–Ї–Є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ—П–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–ЄвА¶ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ —Б—Ж–µ–љ—Л –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ—Л—Е –±–µ—Б–µ–і –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ вАУ –І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤–∞ —Б –Ъ–Њ–љ—З–µ–µ–≤—Л–Љ —В–Њ–Љ—Г —П—Б–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї [–Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 179].
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ —В—А–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–Є: —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞, —Г—З–Є—В–µ–ї—П –Є –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є–Ї–∞, —В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—М –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞—А–∞. –Ю–љ –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ъ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї—Г –Љ—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –Ј–∞ —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ј–∞ —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–ЉвА¶, –Ј–∞ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—ОвА¶¬† –Ъ —Г—З–Є—В–µ–ї—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–є—В–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ –њ–Њ—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є —А–∞–і–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Э–ЊвА¶ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М вАУ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є–Ї, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ—Л—В–∞–µ–Љ—Б—П –њ–Њ—Б—В–Є—З—М –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Г—О –Љ–∞–≥–Є—О –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Є–Ј—Г—З–Є—В—М —Б—В–Є–ї—М, –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –Є–ї–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є¬ї [–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, —Б. 28-29]. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї —Б–µ–±—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї ¬Ђ–≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Є–Ї–∞–Љ¬ї, —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, –Є —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —Б—З–Є—В–∞—О—В –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г—З–µ–љ—Л—Е. –Ч. –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–≤—И–∞—П –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ ¬Ђ—Д–Њ–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї: ¬Ђ–° –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В—М—О —Д–Њ–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–∞ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤ –≤ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А –њ–ї–∞—В–Ї–Є, –Љ—П—З–Є, –Ї—А–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—В–∞—Й–Є—В—М –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–µ–њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ¬ї [–®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, —Б. 43]. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–µ–є—Б—В–≤—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е ¬Ђ–Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є¬ї (—З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М), –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М—Б—П –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ (¬Ђ—Д–Њ–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї!), –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–Є–Љ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞–Љ–Є –≤–Њ–ї—И–µ–±—Б—В–≤–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞:
¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ вАУ —Н—В–Њ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–∞. –Т—Л–Љ—Л—Б–µ–ї –µ—Б—В—М –≤—Л–Љ—Л—Б–µ–ї. –Э–∞–Ј–≤–∞—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–Љ –Ј–љ–∞—З–Є—В –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В—М –Є¬† –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ¬†–Є –њ—А–∞–≤–і—Г. –Т—Б—П–Ї–Є–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М вАУ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ–±–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї, –љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –ґ–µ –Є —Н—В–∞ –∞—А—Е–Є–Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ вАУ –Я—А–Є—А–Њ–і–∞. –Я—А–Є—А–Њ–і–∞ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ–≥–і–∞вА¶ –Я—А–Є—А–Њ–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Д–Њ–Ї—Г—Б–Њ–≤ –Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Њ–≤. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г¬ї
[–Ґ–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 28]
–Я—А–∞–≤–і–∞ –Є –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ ¬Ђ–Ф–∞—А¬ї
–Х—Б–ї–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Њ–є, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –µ–µ –і–µ–ї–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–µ –Є–ї–ї—О–Ј–Є–Є, –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞—В—М, –і—Г—А–∞—З–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, —В–Њ, —З—В–Њ –ґ–µ –µ—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –њ–Њ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤—Г? –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Н—Б—Б–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –Р.–°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞: ¬Ђ–Ц–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—Н—В–∞ –Ї–∞–Ї –њ–∞—А–Њ–і–Є—П –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –Т —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —В–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ–±–Љ–∞–љ. –Э–µ –±—Г–і–µ–Љ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –Љ–∞—Б–Ї–∞—А–∞–і—Г, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П —З–µ—А—В–∞ –њ–Њ—Н—В–∞¬ї [–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, —Б. 529]. –Ф–∞–ї–µ–µ –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ–Є ¬Ђ–њ—А–∞–≤–і–∞¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ¬ї –Њ—З–µ–љ—М –Ј—Л–±–Ї–Є, –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ—Л: ¬Ђ–°–Љ–µ—О—Й–Є–є—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ –≥–Њ—А–ї–Њ, –њ—А–Є—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—П –Ї–∞–±–ї—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–љ (–Я—Г—И–Ї–Є–љ вАУ –Ц.–©.) –Љ–µ–ї—М–Ї–∞–µ—В –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В –ї—О–і–Є, –≤–і—А—Г–≥, –≤ –њ–Њ—А—Л–≤–µ –≤–µ—В—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–±–∞—А–µ,¬† (–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—И—М –Є—Е –ї–Є—Ж, –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Г–ї–Є—З–љ—Л–Љ —Д–Њ–љ–∞—А–µ–Љ, –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–Є—И—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Є –≤–µ—Б–µ–ї—Л—Е —И—Г—В–Њ–Ї), –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, —Н—В–Њ –ї–Є –љ–µ –Ї–∞–±–∞—А–µ, –Ї–∞–±–∞—А–µ –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А–µ –љ–Њ—З–Є, –і–≤–µ—А—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ. –ѓ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –∞ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–∞–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞—З—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ —Б—Л–≥—А–∞–ї –µ–≥–Њ —А–Њ–ї—М. –Ъ–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞! –Ь–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П —Н—В–∞ –Є–≥—А–∞, –Є –≤–Њ—В —П —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ –≤ –љ–µ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Њ–±–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ, –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Я—Г—И–Ї–Є–љвА¶ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї –±—Л —Б–µ–±—П, –љ–Њ –µ—Б–ї–Є —П –≤–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б—О–і–∞ —Е–Њ—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О –Ї –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, —В–Њ —Н—В–∞ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –ї–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞, —В–Њ –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ?¬†–†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –ґ–Є–Ј–љ—М –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–Є—В—М –µ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ? –°–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Б—М –≤ —Н—В–Њ–Љ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П —Б–≤–Њ–є –ї—Г—З –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –µ–µ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞–ґ–∞–µ—В. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ, –∞ –љ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ–Љ¬ї [–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, —Б. 529 — 530].
–Ш—В–∞–Ї, –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –њ—Л—В–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –ґ–і–µ—В –ї–Њ–≤—Г—И–Ї–∞. –Ф–∞–ґ–µ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —В–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, —Д–∞–Ї—В, –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—В–Њ—И–љ–Њ—Б—В—М—О, –њ–Є—И—Г—Й–Є–є ¬Ђ–њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В¬ї —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ—О —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М, —Б–≤–Њ–є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Љ–Є—А, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–∞—П –≤–µ—А—Б–Є—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ ¬Ђ–і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±—Г–і–µ—В –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–∞ –≤ —В–µ —Ж–≤–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–≤–∞–ї–Є—А—Г—О—В –≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –Љ–Є—А–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П¬†—¬†¬Ђ—Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ—А–∞¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј —Б–ї–Њ–≤ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ–Њ—Й—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞.
–Т–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П —Г—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞¬ї –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–µ –µ–≥–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ:
¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј –љ–µ–∞–љ–і–µ—А—В–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–ї–Є–љ—Л —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ¬ї ¬Ђ–Т–Њ–ї–Ї, –≤–Њ–ї–Ї!¬ї — –≤—Л–±–µ–ґ–∞–ї –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –Є —Б–∞–Љ —Б–µ—А—Л–є –≤–Њ–ї–ЇвА¶; –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–ї —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Т–Њ–ї–Ї, –≤–Њ–ї–Ї!¬ї — –∞ –≤–Њ–ї–Ї–∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –±–µ–і–љ—П–ґ–Ї—Г –Є–Ј вАУ –Ј–∞ –µ–≥–Њ –ї—О–±–≤–Є –Ї –≤—А–∞–љ—М—О —Б–Њ–ґ—А–∞–ї–∞ вАУ —В–∞–Ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –±–µ—Б—В–Є—П, –љ–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ. –Т–∞–ґ–љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –У–ї—П–і–Є—В–µ: –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≤–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Є –≤–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –≤ –љ–µ–±—Л–ї–Є—Ж–µ —З—В–Њ вАУ —В–Њ –Љ–µ—А—Ж–∞–µ—В –Є –њ–µ—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –≠—В–Њ—В –Љ–µ—А—Ж–∞—О—Й–Є–є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ–Ї, —Н—В–∞ –њ—А–Є–Ј–Љ–∞ –Є –µ—Б—В—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞¬ї
[–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, —Б. 27 — 28]
–Ш–і–µ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —Г –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –≤ ¬Ђ–Ф–∞—А–µ¬ї
–Ш–і–µ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ–Љ–∞—П –Т. –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ —З–µ—А–µ–Ј –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–ЊвАУ—Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —З–µ—А–µ–Ј –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –§–µ–і–Њ—А–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞-–І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤–∞), —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Ј–Є–ґ–і–µ—В—Б—П –љ–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞.
–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –ґ–Є–≤—П –≤ ¬Ђ–љ–∞–Є–њ—А–Њ—Д–∞–љ–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є–Ј –Љ–Є—А–Њ–≤¬ї, —З–µ—А–њ–∞–µ—В –≤ –љ–µ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –і–ї—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ вАУ —Б—Л—А—М–µ, –њ–Є—Й–∞ –і–ї—П —Г—В–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Е–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П, –њ–Њ–і–Љ–µ—З–∞—В—М –≤ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Љ–µ—В–Ї–Є —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ. –Т ¬Ђ–Ф–∞—А–µ¬ї –µ—Б—В—М –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В, –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–Њ–ї—М –Є—Б–Ї—Г—Б–љ–Њ вАУ —Е–Є—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ, —З—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М: —З—М–µ –ґ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–µ—В –≤–Ј–Њ—А—Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П вАУ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –≥–µ—А–Њ—П, –∞–≤—В–Њ—А–∞ –ї–Є: ¬Ђ–Ф–∞, –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —П –±—Г–і—Г –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ –і–Њ–±–Є—А–∞—В—М –љ–∞—В—Г—А–Њ–є –Ј–∞ —В–∞–є–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞—В –Ј–∞ —В–Њ–≤–∞—А, –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Љ–љ–µ¬ї (¬Ђ–Ф–∞—А¬ї).
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –≤ ¬Ђ–Ф–∞—А–µ¬ї — –Ї–љ–Є–≥–µ –Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ вАУ –Є–і–µ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М —П—А–Ї–Њ. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–љ–Є–µ, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –ї–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, –µ–і–≤–∞ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, —Г–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –§–µ–і–Њ—А–∞ –≤ –њ—А–µ–і—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є. –£—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—П –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј–±–Њ—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —Б–µ–±–µ –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –ї–Є—Ж–µ, –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤ вАУ –І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —З—Г—В—М–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–ї¬ї –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—И–µ—В –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ –Њ—В—Ж–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–µ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–є –Њ—В —В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ—О –њ–Є—Б–∞–љ—Л —Б—В–Є—Е–Є –і–µ—В—Б—В–≤–∞. –Т —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –∞–≤—В–Њ—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –љ–µ —А–∞–Ј —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В—Ж–µ –Є–Љ —Г–ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Н—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –і—Г–Љ–∞—В—М: –§–µ–і–Њ—А –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є–Ј ¬Ђ–Є–і–µ–Є¬ї –≤ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ—Г—О, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г. –†–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—П –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В–Є—Е–∞—Е, –Њ–љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —З–∞—Б—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е ¬Ђ–љ–µ –і–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П¬ї. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–Р –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П —З–µ–≥–Њ?¬ї — –Њ–њ—П—В—М вАУ —В–∞–Ї–Є, —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ. –Ф–∞–ї–µ–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П —А–∞–Ј–±–Њ—А —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞, –§–µ–і–Њ—А –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ—И–Є–±–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ —Г–њ–Њ—А–µ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ, –∞ –≤–µ–і—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ш –Ј–і–µ—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Ї–∞–Ї –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–є –і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–µ—А–±–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М.
 –Ш–і–µ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤ —Б—Г–і—М–±–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П ¬Ђ–Ф–∞—А–∞¬ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —П—А–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –§–µ–і–Њ—А –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –Њ –Э.–У. –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ вАУ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –µ–Љ—Г –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є; —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ,¬† —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —В—А—Г–і —Б–і–µ–ї–∞–µ—В –Є–Ј –§–µ–і–Њ—А–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П: ¬Ђ–£ –§–µ–і–Њ—А–∞ –і–∞–ґ–µ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П, –∞ –≥–ї–∞–Ј –µ–≥–Њ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–µ—В, –Є —Б —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Н—В–Њ–є –≥–ї—П–і–Є—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–і–ї–Њ–±—М—П –±–Њ–і—Г—З–Є–є –Э.–У.–І.¬ї. –£–ґ–µ —Б–∞–Љ–∞ —Н—В–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б —И–∞—Е–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞, –Є–±–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ —Г –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ—В, –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ, —З—В–Њ –§–µ–і–Њ—А—Г –њ–Њ–њ–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –љ–Њ–Љ–µ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –Њ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –§–µ–і–Њ—А—Г –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Є–Ї–Њ–є, —З—В–Њ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї —Б–Њ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ –Њ–љ –Њ –љ–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є —А–µ—И–µ–љ—Л, –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Њ—В–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –љ–∞–Ј–Њ–є–ї–Є–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Б–њ—Г—Б—В—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г, –Є –§–µ–і–Њ—А–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є¬ї¬†[–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤, —Б. 139]. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤ вАУ –І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Ј–∞—П–≤–Є—В—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ. –Т–Њ—В –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ, —Б–Њ—З–Є–љ—П—П —Б—В–Є—Е–Є, –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –≤ —В—Л—Б—П—З–µ–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ¬†—Е–Њ—А–µ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Б—В—М –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ–∞—Б–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–ЄвА¶ –І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ –§–µ–і–Њ—А —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї—В–Њ вАУ —В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ, –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Є –њ—А–Є–њ—А—П—В–∞–ї¬ї (¬Ђ–Ф–∞—А¬ї).
–Ш–і–µ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤ —Б—Г–і—М–±–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П ¬Ђ–Ф–∞—А–∞¬ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —П—А–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –§–µ–і–Њ—А –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –Њ –Э.–У. –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ вАУ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –µ–Љ—Г –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є; —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ,¬† —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —В—А—Г–і —Б–і–µ–ї–∞–µ—В –Є–Ј –§–µ–і–Њ—А–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П: ¬Ђ–£ –§–µ–і–Њ—А–∞ –і–∞–ґ–µ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П, –∞ –≥–ї–∞–Ј –µ–≥–Њ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–µ—В, –Є —Б —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Н—В–Њ–є –≥–ї—П–і–Є—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–і–ї–Њ–±—М—П –±–Њ–і—Г—З–Є–є –Э.–У.–І.¬ї. –£–ґ–µ —Б–∞–Љ–∞ —Н—В–∞ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б —И–∞—Е–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞, –Є–±–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ —Г –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ—В, –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ, —З—В–Њ –§–µ–і–Њ—А—Г –њ–Њ–њ–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –љ–Њ–Љ–µ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –Њ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –§–µ–і–Њ—А—Г –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Є–Ї–Њ–є, —З—В–Њ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї —Б–Њ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ –Њ–љ –Њ –љ–µ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є —А–µ—И–µ–љ—Л, –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Њ—В–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –љ–∞–Ј–Њ–є–ї–Є–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Б–њ—Г—Б—В—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г, –Є –§–µ–і–Њ—А–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–Є¬ї¬†[–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤, —Б. 139]. –Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤ вАУ –І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Ј–∞—П–≤–Є—В—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ. –Т–Њ—В –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ, —Б–Њ—З–Є–љ—П—П —Б—В–Є—Е–Є, –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –≤ —В—Л—Б—П—З–µ–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ¬†—Е–Њ—А–µ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Б—В—М –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ–∞—Б–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–ЄвА¶ –І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ –§–µ–і–Њ—А —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї—В–Њ вАУ —В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ, –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Є –њ—А–Є–њ—А—П—В–∞–ї¬ї (¬Ђ–Ф–∞—А¬ї).
–Т—Л—Е–Њ–і–Є—В —В–∞–Ї, —З—В–Њ, –Є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞—П –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–є, –Є —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—П, –§–µ–і–Њ—А –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П¬†–њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–Љ (–љ–Њ¬†–∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї–µ–Љ!) —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Э–Х–Ъ–Ґ–Ю –Ю–Ґ–Ъ–£–Ф–РвАУ–Ґ–Ю, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ—Б–ї—Г—И–∞–µ–Љ–Њ–µ¬ї –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, –Њ–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є вАУ —В–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї¬ї.
–®–∞—Е–Љ–∞—В–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞вАУ–І–µ—А–і—Л–љ—Ж–µ–≤–∞ (–Є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞), —В–Њ–ґ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ–Ї–Є –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ—Л. –Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З, —Г–≤–µ—А–µ–љ –§–µ–і–Њ—А, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–µ–љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –Р –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –і–ї—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–Ї—Г –Є –њ—А–µ–і–Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —И–∞—Е–Љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е. –Ф–ї—П –§–µ–і–Њ—А–∞ —Н—В–Њ –љ–µ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ–∞—П –Є—Б—В–Є–љ–∞: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ (–Ї–∞–Ї –±—Л–≤–∞–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ –Є –њ—А–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ), —З—В–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞ —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ—В, —В–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –±—Л –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є –Њ–±—Г–Ј–Њ–є –і–ї—П —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (¬Ђ–Ф–∞—А¬ї).
–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є–і–µ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ, —Г–і–∞—З–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Л–Љ ¬Ђ–Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є¬ї. –Т—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є вАУ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Н—В–∞–њ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞—П –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ы–Є—И—М –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –Њ–і–љ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ъ–Њ—Б–Љ–Њ—Б–Њ–Љ, —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В —В–Њ–ї—З–Њ–Ї —Б–≤—Л—И–µ –Є –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—А—Г–і–Є–µ –Ґ—А–∞—Б—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –Э–∞—З–∞–ї–∞, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —В–≤–Њ—А–Є—В—М. ¬Ђ–Я—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—П—Б—М –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–є –њ–µ–є–Ј–∞–ґ, –§–µ–і–Њ—А –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Ї—А—Г–≥ —Б–≤–µ—В–∞, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г —Г–ї–Є—З–љ—Л–Љ —Д–Њ–љ–∞—А–µ–Љ. –Ш —Е–Њ—В—П –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —А–Њ–≤–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ї –§–µ–і–Њ—А—Г –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З—Г –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ, ¬Ђ–Њ–љ–Њ вАУ —В–Њ –Њ–і–љ–∞–Ї–ЊвА¶—З—В–Њ вАУ —В–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Њ —Б –Ї—А–∞—П –і—Г—И–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ¬ї¬†[–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤, —Б. 143].
–Я–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–∞, –Є–ї–Є —З—В–Њ, –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ –ґ–µ, –≤ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Є–≥—А–∞–ї–Є—Й–∞¬ї –Є ¬Ђ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–ї–Є—Й–∞¬ї, –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞, вАУ¬† –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є —Н—В–∞–њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П ¬Ђ–Њ—А—Г–і–Є–µ–Љ¬ї –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞:
¬Ђ–Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—И—М—Б—П –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і—Г—Е–∞, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ –≤–µ—Й–Є —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–Љ –±–ї–µ—Б–Ї–µ. –Ш–і–µ—И—М, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—И—М—Б—П, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М –љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ–љ–Ї–∞, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—И—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є¬† —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –і—Г–Љ–∞—В—М: —В–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –Ј–Њ–≤–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є; –љ—Г–ґ–љ–Њ —Г–Љ–µ—В—М –µ–µ —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М, –≤–Њ—В –Є –≤—Б–µ¬ї
[–Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, —Б. 535]












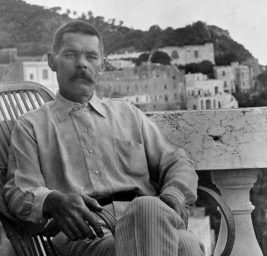



















1 –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є
–Ш–љ–≥–∞
13.02.2023–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ, —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ –і–ї—П —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—В–∞—В—М –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞… –Э–∞ –†—Г—Б–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: —Г–Љ — —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –∞ –і–≤–∞ — –ї—Г—З—И–µ! –Ч–∞–і—Г–Љ–∞–ї–∞—Б—М, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–Љ: –≤—В–Њ—А–Њ–є —Г–Љ –љ–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ — –С–Њ–ґ–Є–є –і–∞—А? –Ґ–∞–ї–∞–љ—В –Њ—В –С–Њ–≥–∞? –Ь—Л –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —В–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ…