Поэтическая мера Михаила Рахунова
23.07.2025
/
Редакция

Мир, празднично и волшебно вращающийся калейдоскопом красок, цветов, их оттенков, их тонкости, мир, распростёртый окрест великолепием разнообразного содержания – такова поэтическая мера Михаила Рахунова.
Итак, шестая книга поэта: своеобразное избранное, самоё своё, сущностное, зерновое, и – небесное.
«Негасимый свет вечерний» — тихо звучат слова, сгустки ассоциаций рождая в сознание.
И — полновесно льются стихи, естественные, как ливень в июле, как запах укропа в огороде, и, стремясь, как можно больше вобрать в них, цветные, поэт демонстрирует хорошую жадность к жизни, равно – изощрённость глазомера, готового соотносить временное и вечное:
Вся покрыта осенними листьями
Отдыхает под вечер земля,
И стоят, будто вечные истины,
Вдоль дороги лесной тополя.
—
По вечернему небу подковою
Белый парус — кораблик плывет.
Это облачко формою новою
Нам себя навсегда раздает.
Дышит земля, покрытая узором листьев, словно интеллектуальным орнаментом слов, дышит, отдыхая, многотрудившаяся всегда, и неожиданность метафоры вспыхивает огнём откровения…
И впрямь – деревья, чья кора напоминает надписи на праязыке, будто – едином для всех природных явлений – настолько связаны с вечностью, с истинами её, что точность поэта словно сочетает математику и словесное вдохновение.
Счастливо и щедро мелькнувшее облачко становится символом чистоты: метафизической, той, к какой, принадлежа вертикали, и стремится подлинная поэзия.
На разных мирах концентрируется взгляд поэта, вот возникает лоскутная Австро-Венгрия, пёстрой сочностью своей завораживающая, огромна, и стихотворение, наименованное «Памяти Австрийской империи» (с посвящением блистательному мастеру стиха и перевода Евгению Витковскому), рассыпает перлы колоритных подробностей:
Говорящий безупречно по-немецки господин
Коротает поздний вечер, он несчастен, он один,
Его усики, как спицы или стрелки у часов,
У него глаза лисицы, в сердце — дверка на засов.
—
Нет, ему не улыбнуться: трость, перчатки, котелок,
Чашка чая, торт на блюдце, очень медленный глоток.
Ах, Богемия, ах, горы, далеко до Мировой,
В город Вену мчит нас скорый, бьет на стыках чардаш свой.
Михаил Рахунов нежен со словами: кажется, прежде, чем вложить в ячейку строки определённое, он рассматривает его, любуясь гранями, что и предлагает сделать потом, когда стихотворение отпущено на волю, читателю.
Его поэзия подробна – реестры мира слишком велики, чтобы хоть чем-то пренебречь: в конце концов, мир и состоит из деталей, плотно пригнанных друг ко другу, как строки в стихотворение.
В подлинном стихотворение, а поэзия М. Рахунова плотно отмечена печатью подлинности.
Марокканский еврей курит пряный кальян,
Он сидит на полу на подстилке протертой.
Ты его пожалей, он бездомен и пьян,
У него нет жены и товаров из Порты.
Замечательно организованная звукопись органична: умение, с высшей ступенью его – мастерством в том, чтобы читатель не почувствовал никакой натуги: органичность, словно растворённая в крови поэтической речи.
Буквицы перемигиваются – острые «р» вспыхивают зазубристыми огоньками; приглушённо работая, «п» показывает богатые возможности музыкальности.
Русской речи.
Речи конкретного поэта – Михаила Рахунова.
Поэзия его – исполнена движения – здесь и машины, и птицы, будучи совершенно конкретными, в то же время становятся символами – лёгкости, всё мчится, полётность завораживает, мир всегда живёт движением, насыщенный им, только так и может.
…слова пропитывают поэта: о! их субстанции разнообразны, и, вливаясь в сердце, они, пройдя через фильтры индивидуальных: дара и мировосприятия, предстают словно обновлёнными.
Замечательна музыкальность поэзии Рахунова, в не меньшей степени – и оттеночность его миросозерцания, когда важны не только впечатления, но и их оттенки, их взаимоперетекаемость, проникновение одно в другое…
Есть барочные мотивы – они подразумевают густую, властную линию, как гул ступеней, перекликающийся с оными, и различные суммы ощущений, предлагаемые поэтом, красиво окрашены радостью бытия; разумеется, превалирует современность: поэт должен быть адекватен своему времени.
Поэзия Рахунова – поэзия счастливого человека…
Он – словно пронизан миром, его солнцем, его высокой властью, небом, музыка оттуда.
И пронизанность подобного рода, будто переведённая с мистического на земной язык, щедро отразится в зеркале читательского восприятия.
Разумеется, радостное принятие мира не отменяет ни усталости, ни печали, ни теневых сторон яви, тем не менее – порою – словно разыгрывая представление в одном, не большом по объёму стихотворение, М. Рахунов, касаясь тем, не тронутых восторгом жизни, выводит к свету, венчающему драму-лабиринт стихотворения:
На грани выдоха и вдоха
Под облаками над землей
Летает ласточка дуреха,
Вновь опьяненная весной.
—
А где весна? В своей печали
Деревья голые черны,
Они, продрогшие, устали
Ждать появления весны.
—
Но вышло солнце, воздух светел,
Заголубел небесный свод,
И над прудом пронесся ветер,
Чуть слышно выдохнув: «Идет!».
Прекрасно пульсирует острая эта грань – в первой строке: словно слоится намёк на жизнь и смерть, последнюю не исключить, но поэзия – своеобразная победа над нею…
…смертное возникает, конечно: например, своеобычно развёрнутой картиной «Похорон», где конкретика ползущих лимузинов словно пересекается с философской составляющей, ну а выдох последней строки…словно счастливая нота сомнений: может, и смерти никакой нет?
Ползут лимузины один за другим
Сквозь толпы зевак,
—
И первым с поверженным телом твоим
Плывет катафалк.
—
Двадцатый ли век, двадцать первый ли век,
Узнаешь ли здесь,
Поскольку не может еще человек
Воскликнуть «Я есмь!».
—
Рулит, как положено, доблестный люд —
Вся местная знать,
И знают они, что они все умрут,
А, впрочем, как знать…
Волны высоты колышутся чистотою…
Трепетное отношение к поэзии логично определяет мировоззрение и мирочувствование Рахунова, и финальное стихотворение книги – «Поэзия» — ткётся живым изяществом нежно текущих слов:
И стих, бесконечный и тонкий,
Бежит за строкою строка,
Как будто бы острой иголкой
Незримая пишет рука.
—
Так вот почему ты такая,
Поэзия! Вот почему
Мы долго глядим, не мигая,
В бескрайнюю звездную тьму!
—
И, бредя заведомым раем,
Мы знаем уже навсегда
Какую мы книгу читаем,
Где каждая буква — звезда.
Именно гравировальной иглой передаёт поэт реальность мира: она тонка, ни один нюанс не упустит.
Впрочем, различные техники используются, инструментарий поэзии богат: густая масляная живопись сочно передаёт видовую прелесть мира:
Кое-что произошло вмиг и окончательно,
Побежал, растаяв, снег, превратившись в лужицу,
Расстелил себя асфальт черной влажной скатертью,
А над ним во всей красе солнце-мячик кружится.
Мазки, плотно положенные, взаимодействуют точно.
И – акварели отдаётся должное: нежными её разводами-размывами творится пейзаж:
За окном белеет иней,
Дождь идет, стучит по крыше,
Одинокой краской синей
Горизонт далекий вышит.
Регулярный рифмованный стих поэт перемежает верлибром, удачно запуская рабочие его механизмы, выводя своеобычный код старости – из предметами заставленного мира, включившего в свои пределы наблюдателя-поэта:
Старость состоит из разнокалиберной мебели,
потёртых ковров
и пахнущих плесенью книг
в тяжёлых переплетах.
Да ещё из кресла-качалки
и полевого бинокля,
который почему-то стоит на столе.
…впрочем, здесь скорее поэтическое растение, со строк-ветвей которого, изящно изогнутых, осыпаются иглы смыслового инея – прямо в сердце читателя…
Колют: многим дано постареть, узнать, что это такое; и – отчасти предметы будут изучать тебя пристальнее, нежели ты их.
Лёгок внешне верлибр, исследующий жизнь слова: лёгок, а – содержательно трагичен:
И было слово.
И растворилась оно в потоке прений.
И превратилось слово в крик.
В крик птицы, подстреленной охотником.
Было мудрое слово.
Слово, создающее миры.
Но превратилось слово в крик птицы.
Прощай, слово.
От тебя не осталось даже эха…
Слово свято: увы, вероятнее всего, между словом, которым был сотворён мир, и словами, которые используют люди, в том числе – созидая стихи, рассказы, романы – бездна; тем не менее, очевидно родство…
Слово, заболтанное и замаранное бесконечностью словопотоков, льющихся отовсюду, словно осветляется поэтом, и, так своеобразно отданное птице, оживает, как будто…
Нет!
Ведь – прощаемся с ним, не оставляющим эха.
Трагическое содержание верлибра не оставляет тяжёлого послевкусия: ибо стих светел – своим исполнением, мерой мудрости, заложенной в него.
Метафизики много в поэзии Рахунова: вот исследуются – сила и укрощение оной, и образ тигрицы, словно противопоставленной укротительнице, лапидарно показанной с натуралистическим смаком, вызывает сострадание, как утрата свободы, перекодировка воли:
Укротили тигрицу; тигрица присела,
Стала руку лизать, ту, что била кнутом;
Рядом в шортах девица — упругое тело,
Униформы, софиты, галдеж и содом.
—
Вот такие дела, где здесь гордость и сила,
Где заветные джунгли, контур радужных скал…
Что за странная сила тебя укротила,
Молодая тигрица, равнодушный оскал?
Действительность проливается в поэта – даже из обыденности сладкой дрёмы-лени можно черпать изрядно впечатлений; действительность проливается в слово, и, отфильтрованная даром и мастерством, возвращается стихами:
До восьми поваляюсь в постели,
Ощутив свое тело едва,
Чтобы грезы ночные поспели
И пролились, живые, в слова.
Длинная строка – включающая множество деталей, как свидетельство ненасытного аппетита к жизни, и, когда творится произведение именно такой, оно словно иначе зажигает смысловые огни:
Пустых собиратель бутылок в пальто и поношенной шляпе,
В карманах какие-то тряпки, не брит, не ухожен, не кормлен,
Сидит на скамейке угрюмо, недели как две, видно, запил,
Мычит, обращаясь к прохожим, такой себе старенький гоблин.
Итак – «Негасимый свет вечерний»: квинтэссенция созданного на сегодня поэтом, разнообразная радуга ощущений, пёстрые вороха действительности, веха итога.
Есть оценка поэзии Рахунова, исполненная Бахытом Кенжеевом: он говорит, мельком упомянув о личных взаимоотношениях, о необыкновенной чистоте, определяющей поэзию Михаила.
Кенжеев речёт о бескорыстии Рахунова: редком в «нашенские», апоэтические и предельно эгоистические времена качестве: поэт расплёскивает себя, как дождь: всем-всем: целому миру, чтобы и мир, напитавшись субстанцией поэтической, живительной влаги, стал чище.
И есть прижизненный отзыв мэтра, всеми любимого актёра Сергея Юрского, — трель телефонного звонка, соединяя континенты (Рахунов живёт в США), доносил живой интерес Юрского к его поэзии, и то, что актёр называл поэта большим – вполне заслуженно.
…ибо — совмещая алхимическую лабораторию, где одно, сложно и торжественно, превращается в другое, и пространство сада, в котором словесные растения разнообразны, ветвисты смыслом и богаты эстетической гаммой, поэт творит свой свод – постепенно поднимающийся к метафизическим небесам: творит уверенно, счастливо, красиво.
Александр Балтин













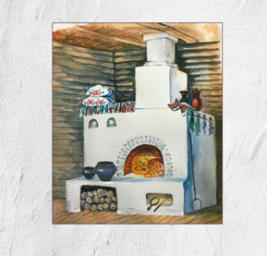
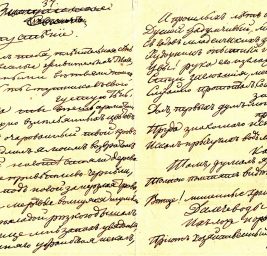









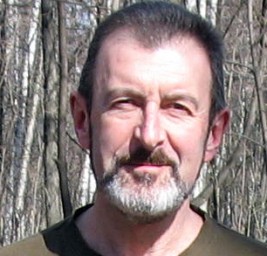
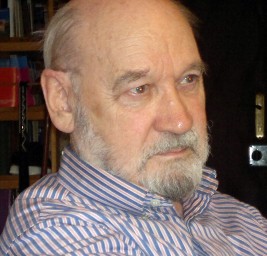





НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ