Вы здесь: Главная /
Литература /
Мария Солодилова. «Два взгляда на войну: вещанье с инобытия». Тема смерти в послевоенной и современной поэзии
Мария Солодилова. «Два взгляда на войну: вещанье с инобытия». Тема смерти в послевоенной и современной поэзии
02.03.2017
/
Редакция

Тема смерти в послевоенной и современной поэзии: социокультурный ракурс
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие как часовые.
В. Высоцкий
Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли
Быт (4;10)
Есть поэзия «на злобу дня», в том числе и та, лучшие образцы которой в военное время звали в бой – «Василий Тёркин» Твардовского, позволяли отдохнуть на привале – «Жди меня» Симонова и так далее, но большая часть поэзии военной – это осмысление прошедшего, появляющейся в печати в послевоенное время. Именно в этой, послевоенной поэзии, в шестидесятые годы, названные оттепелью, появилась одна характерная тема – вещанье с инобытия. Тема эта неслучайно прослеживается у многих фронтовых поэтов – «Я убит подо Ржевом» Твардовского, «Зола», «Моисей», «Военная песня» Семёна Липкина, «Зуммер» Тарковского, ставшие песней стихи Расула Гамзатова «Журавли», «Возвращение» Юрия Кузнецова, «Бухенвальдский набат», опубликованный под именем Александра Соболева, военные стихи В. Высоцкого, человека послевоенного поколения и др. Каким-то стихам повезло: их опубликовали, какие-то должны были томиться под спудом без выхода к читателю, но в настоящей статье предпринята попытка проанализировать стихи поэтов второй половины 20 века, а также современников, где так или иначе затрагивается тема вещанья с инобытия.
Сегодня «Я убит подо Ржевом» считается хрестоматийным стихотворением, школьники с ним знакомятся в 9 классе. Это произведение было начато ещё во время войны, но закончено много позже. Сам автор не включал его в сборники по каким-то причинам, но теперь оно входит в школьную программу как одно из лучших фронтовых стихотворений вообще и у Твардовского – в частности. Возможно, какие-то строфы писались параллельно поэме «Тёркин на том свете», где та же тема обыгрывается, но в пародийном ключе, без серьёзной глубины.
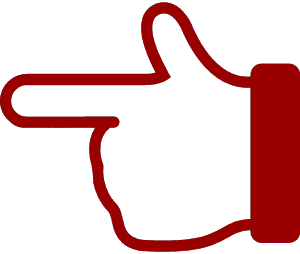 Статья поэта об истории написания читателю ничего не даёт, кроме краткой информации о прототипе – солдате той войны, с которого и был списан «голос» лирического героя произведения. Однако, никакой конкретики жизни солдата, на которого ошибочно пришла «похоронка» и который впоследствии был вынужден, получив увольнительную, хоронить жену – нет. Есть у Твардовского внутренний монолог обобщённого лирического героя, а есть и просто общие слова, которые впору читать с трибуны на митинге – настолько лишены они задушевности, исповедальности. Изначальное название – «Завещание воина» было впоследствии изменено на то, которое известно читателям. Видел ли поэт, что произведение значительно уступает известной народной песне-завещанию «Степь да степь кругом», где лирический герой прощается с теми, кто ему по-настоящему близок? Сменив название на более хлёсткое, выигрышное, Твардовский задал тему многим поэтам своего поколения, а отчасти – и нашим современникам: Р. Щедрин написал цикл хоров, среди которых – «Я убит подо Ржевом», С.Я. Маршак отозвался о стихотворении (неизвестно, насколько искренне): «Это настоящий реквием, простой, величавый и скорбный», а в 2014 году поэт-любитель С. Белкин опубликовал в Интернете стихотворение «Меня нашли» (Всероссийская ассоциация «Боевое братство») как своеобразный ответ Твардовскому.
Статья поэта об истории написания читателю ничего не даёт, кроме краткой информации о прототипе – солдате той войны, с которого и был списан «голос» лирического героя произведения. Однако, никакой конкретики жизни солдата, на которого ошибочно пришла «похоронка» и который впоследствии был вынужден, получив увольнительную, хоронить жену – нет. Есть у Твардовского внутренний монолог обобщённого лирического героя, а есть и просто общие слова, которые впору читать с трибуны на митинге – настолько лишены они задушевности, исповедальности. Изначальное название – «Завещание воина» было впоследствии изменено на то, которое известно читателям. Видел ли поэт, что произведение значительно уступает известной народной песне-завещанию «Степь да степь кругом», где лирический герой прощается с теми, кто ему по-настоящему близок? Сменив название на более хлёсткое, выигрышное, Твардовский задал тему многим поэтам своего поколения, а отчасти – и нашим современникам: Р. Щедрин написал цикл хоров, среди которых – «Я убит подо Ржевом», С.Я. Маршак отозвался о стихотворении (неизвестно, насколько искренне): «Это настоящий реквием, простой, величавый и скорбный», а в 2014 году поэт-любитель С. Белкин опубликовал в Интернете стихотворение «Меня нашли» (Всероссийская ассоциация «Боевое братство») как своеобразный ответ Твардовскому.
Ю. Кублановский считает, что «пока существовала литературная советская субординация, Твардовский считался классиком. Рухнула она – стали забывать поэта Твардовского». Отмечая «сильный зачин» стихотворения, критик замечает, что «Твардовский не всегда мог уловить нужный объём», и что «читать к середине, если не раньше, надоедает». В то же время современный критик хвалит стихотворение «Две строчки», отмечая «глубокое, воистину христианское чувство – чувство отождествления себя с жертвой». О литературной ситуации послевоенного времени, когда Твардовский творил и заведывал журналом «Новый мир», Кублановский замечает, что «при советской власти поэты расплодились в невероятных количествах. (…) Тогда-то и сформировалась странная ситуация(только усугубившаяся сегодня) когда поэт вроде бы есть, а личности нет»*3.
 Но что же такое советская поэзия? Откуда она взялась? Во-первых, советская поэзия в какой-то мере – наследница классической русской литературы, по-своему отрицающей полное небытие:
Но что же такое советская поэзия? Откуда она взялась? Во-первых, советская поэзия в какой-то мере – наследница классической русской литературы, по-своему отрицающей полное небытие:
Так. Весь я не умру,
Но часть меня большая,
От тлена убежав,
По смерти будет жить…
Эти классические строки, небезызвестные вариации «Памятника» Горация, знакомые каждому с детства, получили в советской поэзии несколько неожиданное развитие. Поэзия гражданской войны — это поэзия бессмертия: «но в крови горячечной поднимались мы, но глаза незрячие открывали мы» (Багрицкий «Нас водила молодость…»). Вера в то, что «весь я не умру» прослеживается как в поэзии серебряного века (М. Цветаева «Прохожий»), так и в лучших образцах раннесоветской прозы – А. Весёлый в книге «Россия, кровью умытая», одну из глав называет строками Пасхального тропаря – «Смертию смерть поправ». В тридцатые годы классическая тема памятника стала вдруг ненужной, трактовалась как отрицание бронзового бессмертия, овеществлённого портрета духа – достаточно вспомнить хулиганские вирши Маяковского, не желавшего, чтобы «мои изваяния высились\\ по скверам, где харкает туберкулёз,\\ где б… с хулиганом да сифилис». Твардовский, дебютировавший в 30-е гг – в большей степени наследник советской, чем классической поэзии, хотя непроходимой пропасти между поэзией той и другой — нет. Стоит отметить, пожалуй, один существенный момент поэзии 20-х-первой половины 30-х: часто богоборчество и атеизм вступали в противоречие с классической традицией. С Твардовским насаждаемый исподволь атеизм сыграл злую шутку, рассыпав единство голоса лирического героя самого известного стихотворения.
Первые 24 строчки – почти несомненный шедевр, прочувствованный монолог героя, и разговорные конструкции первого двенадцатистрочия – «в пятой роте, на левом, при жестоком налёте», «ни петлички, ни лычки с гимнастёрки моей» ничуть не портят общего впечатления. Пожалуй, несколько хуже звучит «словно в пропасть с обрыва – и ни дна, ни покрышки», так как данное выражение имеет второе дно – по сути, это проклятие, это пожелание неупокоенности душе, а не только интересная метафора внетелесных ощущений героя. Зато следующее двенадцатистрочие безупречно передаёт новый, бестелесный облик героя-рассказчика и печаль о невозможности поминовения, исполнения погребального обряда:
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт,-
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.
Тема смерти, неприкаянности души в результате «неправильной» смерти – сама по себе слишком серьёзна, былинна, и не терпит никаких идеологических приращений – «Подсчитайте, живые,\\ Сколько сроку назад был на фронте впервые\\ Назван вдруг Сталинград», «Нет, неправда. Задачи той не выиграл враг». Тарковский помнит, что «душе грешно без тела, \\как телу без сорочки – ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки» (стихотворение «Эвридика»). У Твардовского же расчёт, видимо, был сделан на то, что советский читатель уже достаточно «оглох» к поэзии, и ни фальши, ни противоречий не почувствует – «ах, своя ли, чужая, вся в цветах иль снегу – я вам жизнь завещаю, что я больше могу»? Здесь голос лирического героя – это голос атеиста, для которого нет ни рая, ни ада, а потому – некуда идти, остаётся только вечно скитаться где-то над землёй в каком-то нематериальном, но, тем не менее, живом состоянии, а высшая цель – просто жизнь, так что самопожертвование, любовь, живые привязанности к родным и друзьям – ни к чему. С точки зрения религиозного сознания как минимум странно, что лирический герой думает «наш ли Ржев, наконец» в том состоянии, когда уже не до Ржева, Риги или Смоленска, — но не думает, как утешить мать или «подсказать» место и время смерти для исполнения всех необходимых обрядов и облегчения пути по воздушным мытарствам; «кто из рук наших знамя подхватил на бегу» — но ни имён, ни сердечной теплоты к боевым друзьям – живым или уже умершим, хотя и называются какие-то «братья», «товарищи верные». Необходимо отметить, что в советские времена произошла девальвация очень и очень многих прежних слов, в частности – исчезло обращение к собеседнику. «Сударыня», «милостивый государь», «барышня» — разумеется, были объявлены устаревшими, фронтовое искреннее «братцы» потеряло свой смысл вместе с монашеским обращением «братия», а слово «товарищ», предполагающее дружбу, товарищество, взаимопомощь, характерное для 20-х гг, стало исчезать с началом репрессий тридцатых, вытесняемое официальным обращением «гражданин»* 13, с.336. Мы не знаем, есть ли у лирического героя жена или невеста, но даже образ матери – а ещё у Ремизова в романе «Взвихрённая Русь» появляется образ России-старушки, страдалицы и терпеливицы, в отличие от Блока с Русью-женой, Русью-невестой – непроработан, лишь обозначен. Есть Родина-мать, но без возраста, без скорби, только требующая жертв, подобно древним божествам.
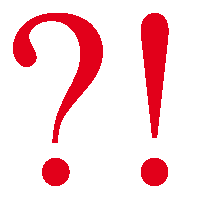 Забота о душе – одна из изначальных тем литературы. Египтянина Синухета именно она погнала обратно, на родину – потому что для души будет полезнее, если похоронят, как египтянина, а не по обрядам кочевников. Вспомним и античную Антигону, которая готова пожертвовать всем, ради того, чтобы достойно похоронить брата, объявленного преступником и изменником – к теме этой трагедии обращались не только драматурги античности, но и в двадцатом веке. Вспомним, как кончаются сказки про бабу-Ягу – «а пепел развеяли по ветру» — такое «антипогребение» предполагает окончательную победу над злом, так веками воспринимали это слушатели. В лагерях смерти как раз и происходило воплощение «сказочного финала», а также вдруг осознанных и переосмысленных ветхозаветных пророчеств. «Только здесь над самой трубой клубы дыма мрачны, — говорила мать Мария, — а поднявшись ввысь, они превращаются в лёгкое облако, чтобы совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в лёгком неземном полёте уходят в вечность для этой радостной жизни». *8, с.193. Семён Липкин, переосмысляя рассказ о сотворении человека из книги Бытия,(«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» Быт, 2;7) констатирует иное рождение\сотворение – рождение души, освобождённой, но бесприютной:
Забота о душе – одна из изначальных тем литературы. Египтянина Синухета именно она погнала обратно, на родину – потому что для души будет полезнее, если похоронят, как египтянина, а не по обрядам кочевников. Вспомним и античную Антигону, которая готова пожертвовать всем, ради того, чтобы достойно похоронить брата, объявленного преступником и изменником – к теме этой трагедии обращались не только драматурги античности, но и в двадцатом веке. Вспомним, как кончаются сказки про бабу-Ягу – «а пепел развеяли по ветру» — такое «антипогребение» предполагает окончательную победу над злом, так веками воспринимали это слушатели. В лагерях смерти как раз и происходило воплощение «сказочного финала», а также вдруг осознанных и переосмысленных ветхозаветных пророчеств. «Только здесь над самой трубой клубы дыма мрачны, — говорила мать Мария, — а поднявшись ввысь, они превращаются в лёгкое облако, чтобы совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в лёгком неземном полёте уходят в вечность для этой радостной жизни». *8, с.193. Семён Липкин, переосмысляя рассказ о сотворении человека из книги Бытия,(«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» Быт, 2;7) констатирует иное рождение\сотворение – рождение души, освобождённой, но бесприютной:
Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.
Ещё и жизни не поняв,
И прежней смерти не оплакав,
Я шёл среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.
Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «Мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли,
Как мне добраться до Одессы»?
Одесса в стихотворении Липкина – это живая боль, живая память. В пространстве стихотворения непонятно – это место рождения лирического героя? Его довоенный дом? Место желаемого погребения? Читатель сочувствует лирическому герою, и потому это стихотворение 1967 года до сих пор современно, приобретается лишь новый смысл – память об Одесских мучениках 2 мая 2014 года, души которых, согласно народным преданиям, ещё некоторое время после смерти будут витать над местом гибели. Можно сказать, в стихотворении Липкина осуществилось то, что констатировал лирический герой «Зуммера» Тарковского, тот самый «голос крови», вопиющий «от земли» и жаждущий воскрешения: «повторяя: звезда, я земля,\\Под землёй провода расправляя и усами овсов шевеля»* 12, с. 301. В «Военной песне», сознательно или бессознательно написанной на ритм «Тумбалалайки» — свадебной еврейской песни, под которую узников вели на смерть, — утверждается надмирная, сказочная, «свадебная» и победная реальность вопреки очевидному: «в лагере смерти печи остыли», «чёрные печи да мыловарни», «в полураскрытом чреве вагона – детское тельце». Здесь читатель ни воскрешения, ни сотворения не видит, но оно подразумевается – мы победили, «пой, балалайка, плакать нельзя».
Вспомним, как тема неупокоенности души, неотомщённого злодеяния раскрывается в сказках: над телом невинно убитого вырастает дерево, из ветвей которого изготавливается музыкальный инструмент, рассказывающий правду. Достаточно часты в сказках и мотивы оборотничества, переселения душ как утверждение окончательного бессмертия добра и всепобеждающей правды. Видение пророка Иезекииля – кости сухие, символ нежити, тогда как кровь – метафора жизни. Пророку было показано, как «стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. (…) …и вошёл в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище» Иез, 37; 7-11). Тема вещания с инобытия чаще всего раскрывается именно в сказочном или языческом ключе, и достаточно редко в советской поэзии – с позиций библейских, хотя в стихах наших современников именно библейские аллюзии достаточно часты, и это притом, что пророчество Иезекииля явно не пользуется популярностью.
Впитавшиеся с молоком матери ветхозаветные пророчества позволили поэту под псевдонимом Александр Соболев осмыслить происходящее в лагерях смерти как голос нового Иезекииля:
Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся,
В шеренги, к ряду ряд.
Но «Бухенвальдский набат», где смешивается пророческо-религиозный план Ветхого Завета с «интернациональными колоннами», не имеет цельного, мощного звучания. Первый куплет несомненно выбивается своим высоким уровнем гимна всем замученным и сожжённым, но второй и третий кажутся написанными совершенно другим человеком, как будто чего-то испугавшимся. Вместо стона Тихого океана по смыслу должен бы звучать голос Бога из пламени, но автор переносит явления духовного плана в физический мир, тем самым обескровливая изначально заявленное звучание своего стихотворения.
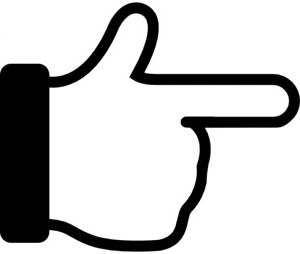 Твардовский не мог не знать о том, что делали фашисты на оккупированных территориях – тем не менее, ни он, никто-либо из «официальных» советских поэтов не решались затрагивать темы концлагерей, плена, смерти в печах как смерти жертвенной во исполнение пророчеств. Даже тему смерти мирного населения на оккупированных территориях – «Враги сожгли родную хату» цензоры пропустили не без труда, и не сразу. Таким образом, образ героя-рассказчика советской военной поэзии – это только образ воина, которому смерть не страшна, так как она «ненастоящая», который думает только о родине. Нельзя не отметить искусственность такого образа, эпичность, граничащую с карикатурностью.
Твардовский не мог не знать о том, что делали фашисты на оккупированных территориях – тем не менее, ни он, никто-либо из «официальных» советских поэтов не решались затрагивать темы концлагерей, плена, смерти в печах как смерти жертвенной во исполнение пророчеств. Даже тему смерти мирного населения на оккупированных территориях – «Враги сожгли родную хату» цензоры пропустили не без труда, и не сразу. Таким образом, образ героя-рассказчика советской военной поэзии – это только образ воина, которому смерть не страшна, так как она «ненастоящая», который думает только о родине. Нельзя не отметить искусственность такого образа, эпичность, граничащую с карикатурностью.
Неудивительно, что в целом слабое и неоднородное стихотворение Твардовского, поднимающее такую тему, задело нерв народной души, что параллельно ему и после появлялись куда более сильные произведения: «Возвращение» Ю. Кузнецова*5, «Журавли» Гамзатова (опубликовано в 1968 году, вперые исполнено – в 1969), а также стихи непечатаемых поэтов – «Зуммер» Тарковского* 12, стихотворения Липкина о войне – «Зола», «Моисей», «Военная песня», «Договор»*1. Все эти стихи по-настоящему религиозны (религио – связь), так как утверждают классическое «весь я не умру», хотя и по-своему: Тарковский – идеей бессмертия «пока я не умер», Кузнецов – показывая житийный, иномирный план несостоявшегося возвращения, Гамзатов – путём перевоплощения душ, известным во многих религиях, Липкин – через веру в незыблемость завета, заключённого с Авраамом, через собственное переосмысление смерти – не по пророчеству Иезекииля, а по книге Бытия.
Лирический герой Твардовского – это, с одной стороны, прорастание правды этаким сказочным деревом: «я убит подо Ржевом, при жестоком налете», а с другой – как будто и «развеяли по ветру» — растворение в природе, неупокоенность, отсутствие своего голоса: «там, где с облачком пыли ходит рожь на холме». Затевая «Тёркина на том свете» и читая задорные стихи в узком кругу друзей, Твардовский и не предполагал, что в какой-то мере предсказывает и свои похороны – трагифарс, о котором хорошо сказал Борис Чичибабин: «И вот унижен, нищ и наг,\\ лежит в гробу при орденах,\\ но с голодом неутолённым,\\ на отпеваньи потаённом, \\куда пускали по талонам, \\на воровских похоронах»* 11, с.193.
Отчасти то, что не дали высказать советской поэзии, высветила проза – А. Платонов «Одухотворённые люди», «Девушка Роза», «Возвращение», М. Шолохов «Судьба человека» — но даже и эти произведения вышли не в свой черёд, многое хранилось под спудом или публиковалось в так называемом «самиздате».
Как же так вышло, что поэт, создавший проникновенный образ народного героя – Василия Тёркина – («Ты в рифмы Тёркина оправил – как сердце вынул из себя»*11, 193)не справился со стихотворением о смерти солдата? Во-первых, поэзия советская была поэзией сюжетной, и непременно сюжетной, а во-вторых, «репортёрский» взгляд на смерть Твардовскому был близок, и получались удачные стихи, но вот заглянуть за грань – это оказалось по-настоящему страшным.
Конечно, во время войны вплотную к теме смерти подступиться было страшно – мешал и официальный атеизм, и метафизический ужас, им порождаемый, но всё же смельчаки находились. Фронтовой поэт Николай Майоров(1919-1942), написавший в 1942 году «Нам не дано спокойно сгнить в могиле», задал характерную тему физического бессмертия, вопреки всему, характерную для советской литературы. Его строки «не верьте, будто мёртвые не слышат,\\ Когда о них потомки говорят» оказались удивительно созвучны 2014 году. В стихи Ярослава Смелякова тема бессмертия вошла как борьба плотяной жизни с чугунным «бессмертием», а также и бесчувствием. Его «Памятник» 1946 года – это тоже отрицание классической традиции, это протест против бестелесности:
А вечером, придя на монумент,
Толкует о бессмертии студент.
Для поэта настоящая жизнь означает иное:
И я сойду с блестящей высоты
На землю ту, где обитаешь ты.
Приближусь прямо к счастью своему,
Рукой чугунной тихо обниму.
На выпуклые грозные глаза
Вдруг набежит чугунная слеза,
И ты услышишь в парке под Москвой
Чугунный голос, нежный голос мой.* 9
Объятия, слёзы, голос – вот что является для поэта признаками жизни, застыть в «вечном» возрасте, возрасте духа лирический герой не готов. Стихотворение это, написанное в плену, пришло к читателю намного позже, чем хотелось бы поэту, но, тем не менее, не осталось незамеченным ценителями настоящей поэзии.
Нельзя оставить без внимания перекличку Дончанки Анны Ревякиной с Ярославом Смеляковым и всей русской традицией:
Моё сердце здесь – расхристанное, живое,
Оно стало памятью у подножия памятника
Неизвестному, но отчаянному герою.*6, с.23
Образ неизвестного солдата является здесь ещё и символом несломленного города, но лучшие подношения – это не цветы, а живая, неослабевающая память и взаимопомощь горожан. Вообще, вновь зазвучавшая тема каменной\стальной памяти широко проявилась в поэзии Русской весны: песня «Гранит» группы «День триффидов» на стихи Алины Баевой, «Новороссия» Игоря Калмыкова, «закаляя кровью сталь и листая календарь». Донбасс уже пережил и переосмыслил советскую поэзию, что нам ещё только предстоит.
К. Ковальджи, принадлежащий поэтической волне шестидесятников, со стихотворением «Мне кажется порой, что под землёй» — наследник советской традиции того же физического бессмертия вопреки всему. Характерный антивоенный пафос и отсутствие посмертного всеведения, отсутствие взгляда «глазами души»:
Внуков бы не встретить \\в той темноте, в той слепоте…
Своеобразным ответом К. Ковальджи звучит стихотворение Ольги Даниловой «Когда в упор в альпийский лёд весной», продолжающей тему преемственности войн, «вырастания» следующей войны из предыдущей, но и первопричин этого – «потеря памяти», «потеря зренья».
По-своему к теме близкой смерти, одиночества в смерти подошёл Владимир Высоцкий. «Он не вернулся из боя», «Баллада о борьбе» — это проникновенный рассказ о дружбе и душевной привязанности, смерть друга – «когда с тебя будто сняли кожу»(выверить!). Пожалуй, впервые в советской поэзии образ погибших как своеобразных ангелов-хранителей встречается в его стихотворении «Он не вернулся из боя», а также просьба «зачислить в какой-нибудь ангельский полк» в «Песне летчика». Фронтовое товарищество не прерывается со смертью, но продолжается в иных пространствах.
В обязательной школьно-поэтической программе моего детства тему одиночества в смерти, заявленную С. Липкиным в стихотворении 1942 года «и хотя были тысячи рядом,\\ я всегда оставался один» старательно обходили. Метафорой смерти часто являлся сон: «спит под фанерною звездой», «здесь солдат советский спит». Стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом» только-только входило в школьную программу военной поэзии. Несмотря на то, что «вечный огонь» как символ бессмертия присутствовал в городах и часто – в сёлах, отношение к такому «официальному бессмертию» было зачастую формальное. Школьные и студенческие поисковые отряды не находили должной поддержки на официальном уровне по причине господствующего атеизма. В конце 90-х – начале 2000-х стало не до официальных символов бессмертия советской эпохи – «вечные огни» гасли, вместо поисковых отрядов приходили так называемые «чёрные копатели».
 В 2012 была запущена акция «георгиевская ленточка», что значительно оживило и расформализировало народную память – с георгиевской ленточкой люди приходили на парады победы, активизировались поисковые отряды. Несмотря на то, что постсоветское пространство уже не было единым, до поры, до времени и на Украине этот символ победы воспринимался вполне благосклонно. Разразившийся в Киеве в феврале 2014 майдан, приведший к возвращению Крыма в родную гавань и войне против Донбасса, привёл к колоссальному сдвигу сознания: память о победе над фашизмом при фактическом насаждении нового фашизма оказалась не нужна. Октябрятская звёздочка, пионерский галстук, георгиевская ленточка оказались фактически лишены статуса памятных знаков и воспринимались как пророссийские, (а значит – противоукраинские) символы нелояльности незаконной власти, пришедшей в результате переворота и смещения законного президента. Неслучайно и звёздочка, и галстук, и триколор, и особенно – георгиевская ленточка – стали неофициальными символами ополчения: «мы – память георгиевских лент» (И. Калмыков, «Новороссия»), «Мы с ней связаны крепко\\\георгиевской лентой» («Русская весна», группы «Год змеи»). Именно там, на территориях ДНР и ЛНР, а также в Одессе, Мариуполе, Киеве, Николаеве и в других городах, воспринимаемых отныне как оккупированные территории, происходило переосмысление традиционной советской поэзии и рождались новые традиции.
В 2012 была запущена акция «георгиевская ленточка», что значительно оживило и расформализировало народную память – с георгиевской ленточкой люди приходили на парады победы, активизировались поисковые отряды. Несмотря на то, что постсоветское пространство уже не было единым, до поры, до времени и на Украине этот символ победы воспринимался вполне благосклонно. Разразившийся в Киеве в феврале 2014 майдан, приведший к возвращению Крыма в родную гавань и войне против Донбасса, привёл к колоссальному сдвигу сознания: память о победе над фашизмом при фактическом насаждении нового фашизма оказалась не нужна. Октябрятская звёздочка, пионерский галстук, георгиевская ленточка оказались фактически лишены статуса памятных знаков и воспринимались как пророссийские, (а значит – противоукраинские) символы нелояльности незаконной власти, пришедшей в результате переворота и смещения законного президента. Неслучайно и звёздочка, и галстук, и триколор, и особенно – георгиевская ленточка – стали неофициальными символами ополчения: «мы – память георгиевских лент» (И. Калмыков, «Новороссия»), «Мы с ней связаны крепко\\\георгиевской лентой» («Русская весна», группы «Год змеи»). Именно там, на территориях ДНР и ЛНР, а также в Одессе, Мариуполе, Киеве, Николаеве и в других городах, воспринимаемых отныне как оккупированные территории, происходило переосмысление традиционной советской поэзии и рождались новые традиции.
«Корсуньский погром» стал точкой невозврата для Крыма, бывшего украинским с хрущёвских времён, и явился одной из причин того, что жители Крыма с восторгом встретили «вежливых зелёных человечков» (этот новый термин фигурирует и в поэзии Русской весны), с почестями приняли израненный и искалеченный «Беркут», стоявший в Киеве на майдане живой стеной.
Новое звучание приобретают привычные школьные произведения – «Мужество» А. Ахматовой, актуализируется поэзия В. Высоцкого (явные параллели прослеживаются в песне В. Корнилова «Верит в нас несгибаемый Донбасс»), по-новому звучат иронические строки Булгакова о том, «як по-украински «кит».
Отправной точкой для многих ушедших в ополчение и мечтающих о «большой Новороссии» стало Одесское всесожжение 2 мая 2014 года*7 на фоне продолжающегося подавления сопротивления Славяно-Краматорской агломерации.
Поскольку после майдана Украина представляла собой «царство, разделившееся в себе», и потому обречённое на гибель, первой и главной темой поэзии Русской весны стала тема братоубийства, Каинова греха. Наиболее наглядно это проявилось в поэзии Владимира Скобцова: «Танго 2014 года»*6, с.31:
Гудит набатом:
«Где брат твой, Каин?»
В рай со штрафбатом
Зачислен парень.
Эти стихи, написанные в эстрадно-шестидесятнической манере, помимо явных библейских аллюзий из книги Бытия, перекликаются и со стихами Тарковского о другой смуте. Оба поэта используют образ Вия как знак инфернальности, нереальности происходящего, вторжения духовных войн на землю. «Вий над Россией топорщит усы»*12, с.144(«Тянет железом, картофельной гнилью») – пишет Тарковский, «Прогнали вора,\\Позвали Вия» — свидетельствует наш современник. Трагическое мироощущение начала войны с фашизмом и понимание, что грядёт долгая и кровопролитная битва, встречающееся у Тарковского – «словно чёрные кони Мамая так же близко, как в те времена.\\Кони ржут и звенят стремена», сродни и современным поэтам, для которых погибшие солдаты ВОВ стали как бы проводниками и ангелами-хранителями, а также наиболее частыми собеседниками.
Параллельно теме братоубийства проявилась и тема отрицания родства, заявленная в стихах Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями» (предположительно, переделка стихотворения фронтового поэта «Нам нацисты не будут братьями») и многочисленных – профессиональных и любительских – поэтических ответах, самым известным из которых является песенный ответ Глеба Корнилова на стихи Владимира Корнилова.
Одновременно с темой отрицания родства с бывшими соотечественниками нарождается тема родства с обстреливаемыми населёнными пунктами, особенно выделяется Донецк – как город-личность. Эти темы встречаются в стихах Вячеслава Теркулова, Дмитрия Трибушного(у которого Донецк уподобляется ещё и Неопалимой Купине), Глеба Гусакова. «Не железом – живыми телами\\ Подпираются своды города» — отмечает Алиса Фёдорова*6, с.37, и потому – «Руки-скрепы белы от холода,\\ Неподвижные ноги-сваи\\ По колено в родном бетоне», в противовес «Памятнику» Ярослава Смелякова. Поэты-современники задаются вопросом – как выжить живому в аду войны? Впрочем, и Горловка, которую неоднократно брали в кольцо, в стихотворении Ирины Быковской «Бьёт война тебя в центр и околицы» — становится городом-символом, городом-жертвой — «пред Господом душами свечка\\До последнего человечка»*6.
Тема вещанья с инобытия представлена достаточно широко, но многие тексты непрофессиональны и анонимны:
Я погиб на майдане за вас, киевляне (неизв. автор)
Ангелы, встречайте, я – Полина, и меня убила Украина (неизвестный автор, опубл. В сб. «Мой город охрип от молитв», ДНР, Донецк, изд-во «Эдит», 2015)
Я – маленький мальчик, я сплю в деревянном гробике(Василина Зеркалова)
А скорая меня не довезла (Анна Вечкасова*6, с.45)
Мне позвонил мой дед, погибший на войне (Геннадий Жуков *14)
А вдруг это не я убита под Донецком (Наталья Лясковская*10)
Ребята! Родные! Вставайте, пока ещё живы (Снежана Аэндо* 15)
Голос из братской могилы (Андрей Шталь, *10)
Характерно в этой новой военной поэзии как раз то, что она является прямой наследницей поэзии советской, атеистической. Авторы стихов, вещая с инобытия за тех, кому не дали голоса, чей голос не был услышан, часто перечисляют обстоятельства смерти: «был приказ: чтоб ни шагу!», «в нас швыряли камнями, \\нас пинали ногами, \\под защиту пытаясь запихнуть взрывпакет», рассказывая о смысле смерти лирического героя – «за вас, киевляне». Василина Зеркалова в своём произведении совмещает голоса умерших: «я – маленький мальчик», «я – мама, я навеки уснула под плитами», «я – боец-доброволец, ушедший весной в ополчение», «я – почтальон» и живых, беспомощных и потерянных. Лирический герой Натальи Лясковской примеряет на себя каждую смерть, но это взгляд репортёра: «в овраге у куста, роса на волосах», «с простреленной главой, с распоротым нутром», хотя и следует вывод – «все эти люди я, все эти люди я». В этом стихотворении единственное связующее звено – лирическое «Я» автора, нет подлинной религио – связи, так как «погибшие в боях отцы и сыновья» поразительно неконкретны, словно бы смешаны все войны, нет преемственности с борцами против фашизма, нет уверенности, что «наши мёртвые нас не оставят в беде». В стихотворении Анны Вечкасовой также описан первый миг смерти, всего лишь констатация факта, без размышлений о том, есть ли и будет ли посмертное существование, и в этом данный автор, безусловно, наследует Твардовскому и традиционной официальной советской поэзии. Безусловно перекликаются стихи Ольги Даниловой «Когда в упор в альпийский лёд весной»*10 и Геннадия Жукова «Мне позвонил мой дед, погибший на войне»*14, возможно, произрастающие из одного корня – из «Зуммера» Тарковского. У этих двух авторов заявлена преемственность воинов прошедших войн с настоящей, и чувство вины за то, что допустили повторение казалось бы, давно прошедшего – «Потеря памяти. Потеря зренья». Пространство, откуда может позвонить дед, убитый на войне, можно описать как пространство сна, памяти или же пространство духа. Характерно, что в этих стихах предполагается личная ответственность за произошедшее, личные выводы и надежда на следующий звонок – подлинно религиозное чувство. Одиночество в смерти оказывается равным одиночеству живущих, отрезанных от потустороннего мира, но существующая связь делает и его не таким страшным. В стихотворении Елены Заславской «Границы» *6, с.54-55 рассказ ведётся от лица человека, которого вот-вот убьют: «и пуля, что во мне совьёт\\ гнездо\\ – уже в обойме», но смерть – не обречённость на одиночество, потому что «обрывается связь мобильная – остаётся сердечная связь», а впереди – путь: «и по звёздам, что в небе светятся,\\ через взорванные мосты,\\ я лечу к тебе, чтобы встретиться\\ у взятой тобой высоты». В другом стихотворении Елены Заславской – «И стала война раздавать имена»*6, с.54 осмыслен образ неизвестного солдата, широко представленный в советском искусстве, но с подлинно религиозным чувством – «среди них – и моё. Поминайте, как звали», с расчётом на читателя, знакомого с поминовением неопознанных – «имена же их, Господи, Ты веси».
Каким же образом ещё до памятного шествия «Бессмертного полка» именно поэзия не побоялась дать голос всем убитым и замученным, не дожившим до празднования победы? А подлинная поэзия всегда улавливала главное задолго до воплощения. Именно это свойство и делало её настоящей. Именно этого нельзя не заметить в переосмыслении современной литературной ситуации, которое уже и осуществляется. По прошествии некоторого времени жемчужины новой военной поэзии займут своё место в антологиях и школьных учебниках.
Источники
1. Семён Липкин. Воля. М, ОГИ, 2003
2. А. Твардовский Из лирики этих лет М, Советский писатель, 1967
3. Ю. Кублановский Этюд о Твардовском Новый мир, 2000, № 6, с.131-135
4. Ю. Кублановский Поэтическая Евразия Семена Липкина Новый мир, 2000, № 7
5. «Поклонимся великим тем годам…» Антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института им. А.М. Горького. М, изд-во Лит. ин-та им. А.М. Горького, 2010
6. Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса, М; Перо, 2014
7. youtube.com\user\svobodaukr – Мертва Украина, сгорела живьём, \\Убита в Одессе нацистским зверьём.
8. Благая весть: Эли Визель Ночь, Сергий Гаккель Мать Мария, Антоний Сурожский Духовные встречи 20 века, Университетская книга, М-Спб, 2000
9. Русская советская поэзия под ред .Л.П. Кременцова, Ленинград, Просвещение, 1988
10. www.petrogazeta.ru
11. Борис Чичибабин в стихах и прозе. СП Каравелла, Харьков, 1995
12. Арсений Тарковский Избранное. Смоленск, Русич, 2001
13. Д.С. Лихачёв Преодоление времени, М: АСТ, 2016
14. www.gennadiyzhukov.ru
15. www.stihi.ru/2014/09/27/9877
16. Владимир Высоцкий «Сыновья уходят в бой», фирма «Мелодия», 2002
17. rupoem.ru^Александр Твардовский^ «Я убит подо Ржевом»







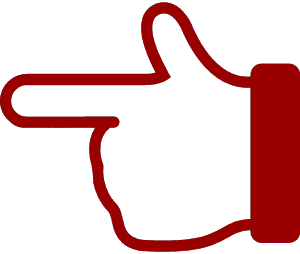

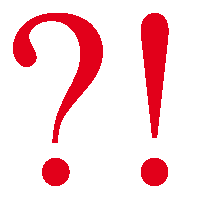
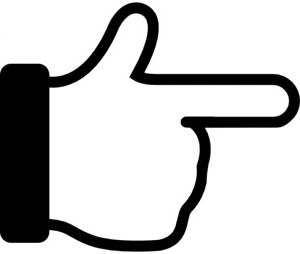



























НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ