Романтические этюды о художнике К.
01.12.2020
/
Редакция

Продолжение дневника. Три года спустя.
Она посмотрела на портрет, послуживший источником для этих строчек, написанных ещё в прошлом веке, и вспомнила давно забытую историю.
О, женщина, ты ведьмовский напиток!
В.Я. Брюсов
Благодаря женщине мир перевернулся. Скольких тем и сюжетов лишилась бы мировая художественная культура, если бы Ева в своё время не отведала то злосчастное яблоко. С точки зрения искусства первородный грех имел колоссальное значение, поэтому настоящий художник должен любить женщин всей душой и быть им признательным. Если учесть, что первая женщина была создана из ребра Адама, то становится очевидно, что внутренний мир художника просто создан для женщин. Стоит пустить её в своё сердце, распахнуть для неё свою душу, и вы сразу почувствуете, какой порыв вдохновения вас охватит – образы так и завитают над вами, обогатив ваше художественное видение. Взгляните на женщину, и вы увидите: «кожа, как персик, зубки, как жемчуг, губки, как кизил», – натюрморт в чистом виде. Глаза, как озёра, волосы, как водопад, холмы возвышаются, розы цветут – всё на своём месте, – и выходит пейзаж. Ну о портрете уже не приходится говорить. И всё это естественно, как сама природа. Творить можно на века. Работы хватит, потому что женщина – это больше, чем Вселенная, она подлинный шедевр, созданный самим Господом Богом. И кто станет оспаривать право называть создание Всевышнего шедевром.
Если художник не любит женщин – он не настоящий художник, а так… бесчувственный жалкий ремесленник, закопавшийся среди гипсовых голов Аполлона, кучи книг и тщательно выметенных ковровых дорожек в мастерской с огромным, ничем не прикрытым, окном во всю стену. И никакой тайны не найдёте вы здесь, ни одного укромного уголка, служащего отправной точкой для полёта фантазии.
Виктор Кротов любил женщин, и, следовательно, был настоящим художником. И мастерская его была ни на что не похожа. Вернее, не похожа ни на что реальное: когда предметы перестают быть самими собой, а соединяются в странные причудливые образы, существующие в некоем неопределённом пространстве и времени. Как в чёрных дырах космоса, где течение времени замедленно со страшной силой, и, когда там проходит миг – на земле проходит столетие. В мастерской Виктора Кротова окна были занавешены. Тот мир – с улицы, не проникал внутрь, и земной час пролетал здесь, как одно мгновение. В его мастерской пространство и время – эти две философские категории – наложили на всё свой отпечаток и создали резкий контраст между восприятием жизни здесь и восприятием жизни вне этого дома. Эти две жизни были так же далеки друг от друга, как картины мастеров Северного и Южного Возрождения.
О, Сальвадор Дали и голос его смуглый!
Федерико Гарсиа Лорка
Виктор Кротов …в берете, как у Рафаэля, и с голосом, как у Дали (глухим и надтреснуто-хрипловатым), – он был сродни своей мастерской, такой же романтичный и загадочный. Вместе они составляли одно целое и представляли собой «сюрное» искусство.
Знакомство с Виктором произошло совершенно неожиданно. Но именно в таких непредвиденных знакомствах и заключается весь шарм бытия. Вспомним хотя бы потрясение набоковского Гумберта, впервые увидевшего Лолиту: «Она была просто Ло… Ло — ли — та».
…Стеклянные двери в словацком культурном центре были очень тяжёлые, и поэтому открывались с большим трудом. Она всем телом налегла на эти невозможные двери. Наконец преодолев их сопротивление и ответив при входе на дежурный вопрос, что… «у неё приглашение на выставку художника Кротова», она переступила порог и в первый же миг натолкнулась взглядом на встречный пронизывающий взгляд какого-то мужчины. Это было совершенно неожиданное столкновение. Его глаза и вообще вся его поза явственно выражали мысль: «Художник Кротов – я, но Вас… я не знаю». Она сообразила, что, следуя этикету, надо было хотя бы поздороваться. Но ей показалось, что это очень неприлично с её стороны. Во-первых, они были не знакомы, во-вторых, он казался бесконечно далёким и чужим: по сравнению с ней он был необыкновенно высок, к тому же ещё и одет он был тоже необыкновенно. В глаза бросался жёлтый пиджак, расписанный подобно тому, как художники расписывают свои полотна. Казалось – весь удивительный, праздничный мир подсознания проступил на ярком солнечном фоне для всеобщего обозрения и притягивает к себе внимание. Белая тонкая рубашка на груди художника выглядела такой воздушной, будто сфумато на картинах великого Леонардо. Чувствовалось, как она обволакивает тело художника, источая свежесть и чистоту. Но чёрные брюки и чёрный берет вносили совершенно иное настроение и придавали ему таинственность и инфернальность. А туфли с пряжками подчёркивали, что их владелец имеет отношение к средним векам и является не таким уж дальним родственником Мефистофеля. Всё это, страсть как шло к его седине и было забавно и соблазнительно. Переход чёрного цвета в жёлтый с белым и снова в чёрный был идеален. Разве что только на берете не доставало пера, но, как видно по утверждению уважаемого Гёте, «цивилизация велит идти вперёд!». Одним словом, перед ней стоял не мужчина, а картина. И вовремя вспомнив золотое театральное правило: «Держишь паузу – держи её до конца», – она решила благоразумно ему последовать и прошла мимо. Вешая в гардеробе свою одежду, она подумала: «Сюжет для кино – они встретились на выставке среди картин, познакомились, и скоро он написал её портрет». Она усмехнулась про себя и тут же выкинула эту ерунду из головы, потому что любила серьёзные психологические сюжеты, а этот сюжет напоминал лёгкую, развлекательную, даже дешёвую историю из американского фильма. Она вышла из гардероба и направилась в зал – к картинам. Но в эту минуту она заметила, что художник Кротов оживлённо раскланивается около входных дверей с какой-то пышной блондинкой. «Тоже, наверное, художница и тоже какая высокая, у него, наверное, все друзья такие, – подумала она и решила рассмотреть Кротова со спины. – Да, и со спины он, как картина». С таким ростом и сложением люди обычно выглядят моложе своих лет, хотя седые волосы, небольшая седая борода и усы указывали на то, что сорок пять ему было лет десять назад. Но эта седина добавляла ему значимости и благородства и ничуть не портила его красоты, – а он, бесспорно, был красив. «Интересно, каким он был, пока не поседел: блондином или брюнетом, – мелькнуло у неё в голове, – а может, шатеном или рыжим? Загадка, одним словом», – язвительно подумала она и усмехнулась второй раз.
Постепенно собрались приглашённые гости. Народ разбрёлся по залу и рассматривал выставленные произведения искусства. Она подошла к краю лестницы, над которой висела одна маленькая картина – «Моление о чаше». Картина и рама были необычной формы, похожей на перевёрнутое сердце, из тех, что дети рисуют на своих картинках и пронзают стрелами. На картине был изображён Ангел с устремлёнными вверх глазами. Над ним простиралось бесконечное небо, а внизу бушевал безбрежный океан. Чёрная бездна и сверху и снизу, чёрное небо и чёрная вода смыкались, плавно перетекая друг в друга, образуя единую грозную стихию. Как роковая подводная скала, несущая страдание и смерть, из океанских глубин выступила чаша. И она была, словно каменная, и освещалась холодным белым светом. Высокие волны с полупрозрачной пеной достигали Ангела, единственного живого существа в этом «вселенском потопе». Вымокшие в океане крылья делали его похожим на хрупкого и беспомощного мотылька, захлёстнутого беспощадной волной и чувствующего свою обречённость. Вогнутые внутрь края картинной рамы обрамляли его голову, плечи и руки, но создавалось впечатление, что края рамы просто деформировались от страшного натиска извне. Казалось, что действительность тяжкой ношей обрушилась на плечи Ангела, а он не сопротивлялся, он был тих и беззащитен, как ребёнок. Опустив руки вниз, и едва возведя их к небу, он молил, он ждал свою судьбу, свой приговор, устремляя свои помыслы к далёкой недосягаемой звезде и отдавая себя во власть Высшей воли.
Она долго смотрела на эту картину, не в силах оторваться от неё, будто приросла к ней всей своей сущностью, осознаваемой и нет, не в силах даже отвести глаз. Наконец она перевела взгляд на соседнюю картину, и то, что она увидела, было столь же прекрасно. И название этому прекрасному она прочла на самом холсте: «Ангелы света». Два Ангела склонились над свечой, один напротив другого. Их длинные вьющиеся волосы казались настолько лёгкими, тонкими и воздушными, что пропускали свет, который струился между их прядями, от чего их волосы словно тоже излучали свет. Ангелы с нежностью смотрели на пламя высокой восковой свечи, в котором ощущалась сила, и от которого исходило всё согревающее тепло, и они молча благословляли маленький огонёк, и свет этой свечи был немеркнущим светом, отчасти принадлежащим яркой белой звезде, сияющей над миром. Глядя на Ангелов света, повседневное стиралось из памяти и больше не тревожило. Хотелось приблизиться к Ангелам и быть с ними, и принадлежать тому миру, и думать о чём-нибудь сокровенном в надежде, что оно исполнится. Вспоминались строчки из Пастернака:
Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
По бокам картины проходил мягкий занавес из тёмно-коричневого бархата, бархат был настоящий, его можно было потрогать и ощутить. От его спокойного тёплого тона веяло уютом, а в его лёгких складках угадывалась какая-то неуловимая и не понятно от чего происходящая бестелесность. И эта двойственность: с одной стороны – материальность ткани, с другой стороны – её кажущаяся бестелесность, создавали впечатление, что этот занавес призрачная граница между миром людей и миром ангелов. Художник будто на какое-то мгновение приподнял своей умелой рукой завесу и показал крохотный «кусочек» Рая, чтобы мы могли им насладиться. Но малейшее наше неосторожное движение – и занавес задёрнется, сокрыв прекрасное трогательное видение.
Она вспомнила слова испанского философа Хосе Ортеги и Гассета о том, что холст – это скважина в воображаемый мир, пробуренная в безжизненной реальности стен, брешь в невероятное, открывающееся за благословенным окном рамки. И сейчас она с особенной силой ощутила то, что хотел сказать этот испанец.
Картины Виктора Кротова сразу овладели её вниманием и повели за собой. Вот старый согнувшийся от холода Левий Матвей, замёрзший до костей, один посреди снега в рваном сером рубище. Такой же корявый и угловатый, как дерево, под которым он стал. Одна из веток дерева пролезла под рукой Левия Матвея и торчала, растопырив свои прутики, как торчал белый локоть апостола из дырки на рукаве ветхой одежды, куда он засунул погреть руки. И было похоже, что дерево проросло в Левия Матвея, пустило в него ветки и корни. Так они стояли вдвоём, согревая друг друга, посреди снега и вечности.
Аура, сине-голубая, как морозный воздух, окружала фигуру апостола, приобретая ярко-золотистый цвет над его головой, подобно слепящему зимнему солнцу. Но самое удивительное, что глаза апостола были широко открыты, и в них не было ни капли мучения или отрешённости, какая бывает у человека сильно замёрзшего, напротив, они были спокойны, умиротворённы, будто ему не было зябко, и он совсем не чувствовал холода. Его взгляд был осознан, и в нём читалась ясность мысли. Он куда-то смотрел и что-то видел там.
Пока она рассматривала картины, народу значительно прибавилось, и в зале стало теснее. Теперь надо было ходить и смотреть, стараясь не мешать другим. Это не столь удобно, но с этим всегда приходится мириться в общественном месте. И она аккуратно подошла к следующей картине «Гранд-Булонь». Это напоминало чью-то игру с зеркалами, когда возникающие отражения ломают одно пространство и создают взамен новые, и заставляют существовать нереальное наравне с реальным. Вот чьи-то тени, хотя никого нет. А вот стоит человек – дама – раскрыла над головой зонт от солнца, но у дамы нет тени. Значит, она не существует, значит, она не реальна, раз не отбрасывает тень. Как странно. А вот другое пространство – всё та же дама, но нет – теперь уже здесь витает её призрак или душа, и за ней следует тень. Но у призрака нет плоти, и поэтому нет тени. Что же здесь реально, а что нереально? Что более реально в нашей жизни?
Виктор Кротов принадлежал к художникам-сюрреалистам. И сейчас, бродя меж его картин, она удивлялась, что сюрреализм мог так её увлечь. Было очевидно, что Сальвадор Дали имел большое значение в творческой жизни Кротова. Но по её мнению, в манере Дали проступала жёсткость и агрессия. И она всегда испытывала непонятное напряжение душевных сил, когда смотрела его картины. Картины же Кротова она могла смотреть без конца. Чувствовалось в его сюрреализме что-то жизнерадостное, мягкое, сокровенное, что оказалось близко её душе. Сам Кротов называл свой сюрреализм «романтическим». И это определение было очень верно. Чувствовалось, что за этими словами кроется истина.
Его картины напоминали ей замысловатую театральную декорацию, сцены из большого грандиозного спектакля с невероятными актёрскими образами. В этом замысле соединялись философия и мистика, драма и фарс, красота и уродство. Жизнь сверкала всеми гранями. И проходила перед глазами потрясённых зрителей. Это зрелище было поистине великолепно. Его невозможно было запомнить, пересказать. Его можно было только наблюдать и удивляться ловкости режиссёра и изобретательности актёров, действующих на сцене. Удивляться количеству и разнообразию деталей, подробностей, штрихов, выведенных на сцене, несущих свою атмосферу, имеющих свой смысл, своё предназначение. Поражало в его картинах смещение вещей и разгул красок. Простой нож, на лезвии которого, как в зеркале, отразился разрезаемый им лимон, приобретал значение рокового ножа судьбы. Так в памяти запечатлеваются «больные срезы», которые оставляет жизнь в душах людей. Изумляло превращение одного образа в другой: взгляд на один и тот же предмет с разных точек зрения. Вот земля, вот голубое небо и стая чёрных птиц. Но вдруг – неизвестно откуда взявшийся в небе круглый камень и сидящая на нём большая, толстая ящерица превращают тех птиц в стаю мошкары, в которой эта самая ящерица с аппетитом пожирает крупных мошек, ловя их своим длинным языком.
И ни в чём нет однозначности. Всё – вечное движение, всё – цепь постоянных метаморфоз. Вот новое изображение: чей-то неведомый лик – таинственная незнакомка в чёрном – взгляд фиксирует шляпу необычайных размеров и формы у неё на голове – это лодка, плывущая в загадочную даль, – море, море, море. Всё мираж… «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» – как писал Гоголь. В каждой картине здесь сквозила судьба, непонятно чья, но судьба, может быть, вселенская, вдруг подумалось ей, хотя она всегда старалась избегать высокопарностей. «Вот бы сыграть в таких декорациях», – пришла ей в голову восхитительная мысль. Она любила театр, поэтому полюбила и его картины, которые были так похожи на это искусство.
Был пасмурный декабрьский день. Она вышла из метро Китай-город, перешла площадь и остановилась возле церкви. «Церковь на Кулишках», – прочитала она. И решила зайти. Почему-то вдруг потянуло туда. В церкви было спокойно, тихо. Низкие золочёные своды сплелись над головой. Пахло воском, ладаном и елеем. До встречи с Виктором Кротовым оставалось время, и хотелось немного побыть среди икон и свечей, хотелось умиротворения. Месяц назад они всё-таки познакомились на той выставке, и он всё-таки предложил написать её портрет. И вот теперь она шла к нему в мастерскую. Мастерская располагалась в уютном закоулке за большими железными воротами в старом двухэтажном доме на втором этаже, и со двора туда вела крутая железная лестница, подобная тем, которые бывают на кораблях. Она взошла по лестнице, как на корабль, потому что этот старый двухэтажный домик неопределённого цвета с двумя рядами окошек, притаившийся в глубине двора, напоминал двухпалубный корабль – корабль-призрак, Летучий голландец, только среди безбрежного снегового моря. Она отворила железную дверь и ступила в холодный коридор, который служил проходом из того привычного мира, оставленного за спиной, в мир ей новый, ещё неизведанный, в который она вот-вот готовилась проникнуть. Она пошла по коридору, который был широк и напоминал заброшенную корму корабля. Подойдя в полумраке к следующей главной двери, она секунду помедлила, собралась с мыслями, затем сразу же постучала и распахнула дверь. Из-за потертых гобеленовых штор пробивался свет. Взору открылся узкий коридор с четырьмя такими же узкими проходами в комнаты, по два с каждой стороны. Дверь была только в одной комнате, крайней. Три других прохода были завешены гобеленом и тюлем. Корабль-призрак посвящал её в свою старинную легенду. Коридор и комнаты были не что иное, как палуба с двумя рядами кают слева и справа. В конце коридора стоял Виктор и улыбался. Она сняла тёплую одежду и осталась в платье: «Как хорошо, что я надела длинное платье из тёмно-синего бархата – в нём звучит голос моря, голос странствий и приключений. Мне следовало бы поменять имя и стать Мариной – «морской»». Она улыбнулась своей выдумке и посмотрела в конец коридора – Виктора уже не было. И она пошла его искать. Она шла и понимала, что уже полюбила эту мастерскую, и было так приятно ступать по мягкому полу. Пройдя коридор, она задержалась возле зеркала и часов. Разглядывая их, она подумала:
«Какое чудо – быть среди этих древних вещей, этих призрачных стен»
Коридор заканчивался аркой, пройдя её, она неожиданно, вопреки всякой логике, оказалась в большой ярко освещённой комнате. Ей почудилось, что арка была рамой, а комната – картиной, и, переступив через арку, она переступила через раму и оказалась одной из фигурок, вписанной в холст хозяина мастерской. Причудливый мир картин, которым она любовалась на выставке, ожил и обступил её со всех сторон. Это был настоящий калейдоскоп сюрреализма. Клавиатура музыкальных инструментов с разбитыми клавишами, деревянные колеса и рамы, старинные фотографии, перчатки и туфли, засушенные цветы, всякие давнишние вещи, вышедшие из употребления, а также большие игольчатые раковины и маленькие ракушки, камни и камушки, фигуры и фигурки, вазы всевозможных форм, бутылки необычного вида, расписанные художником по своему усмотрению, – всё шло в дело, всё это соединялось друг с другом или разъединялось на части, и начинало представлять собой витиеватые образы. Вот на каком-то странном резном кронштейне подвешена к стене лампа, разукрашенная, как ёлочная игрушка, а под ней стоит современный электрический чайник. А вот высушенная рыба на стене, а напротив коричневое чучело крокодила, а вон с чьей-то шляпы свисает зелёная сетка. Кроме того, все стены были увешаны картинами. И всё жило какой-то особенной самостоятельной жизнью. Она переходила от одной стены к другой, от одного предмета к другому, пытаясь всё рассмотреть и осознать, но в конце концов выбилась из сил, решив для себя, что много правды было в словах так называемого Козьмы Петровича Пруткова о том, что нельзя объять необъятное.
Она вошла в следующую комнату. И мгновенно поняла, что чудеса ещё не кончились. Комната была уставлена старинной мебелью. Боже, какие руки касались этих вещей, где они раньше находились, что в них хранили. У всех этих вещей была своя история. И все они берегли дух своего времени. Она подходила к этим вещам по очереди, прикасалась к их дверкам, ящичкам, ключикам, ручкам, изогнутым ножкам, и ей мерещилось, что она прикасается к прошлому. Видеть всё это в нашем времени было так же странно, как странно понять то сложное диалектическое чувство испанки: «Я вся огонь и лёд», – которое она испытывает в момент зарождения любви.
Посреди комнаты стоял громоздкий старинный мольберт. Под ним валялись пустые скрюченные тюбики из-под красок, сломанные кисти и обрывки тряпочек.
Вообще, краски и особенно кисти занимали различные места в этой комнате. Они лежали на столике, на тумбочке, на блюдах и тарелках, хранились в вазах и ящиках. Казалось, что их здесь сотни или даже тысячи. Возле мольберта стояла круглая деревянная табуретка, а рядом находилась палитра – равносторонний восьмигранник, выпиленный из фанеры. Картин в этой комнате было не меньше, чем в предыдущей. В основном они были написаны на дверках старинных шкафов, на корпусах старинных часов или просто на различных вещицах, поэтому все имели причудливую форму и нестандартный размер.
Она принялась рассматривать картины и в этой комнате. И вскоре набрела на «Вечно живую палитру одинокого гения». Палитра напоминала планету, состоявшую из цветных засохших сгустков красок. Ей она показалась планетой, на которой жил и лелеял свою розу маленький принц из книжки Экзюпери. Но тут она увидела сбоку белое перо, как будто занесённое сюда ветром из космоса. «А вот и перо нашлось с берета Мефистофеля». И она снова усмехнулась про себя, как тогда на выставке. Насмотревшись, она села на стул, как велел Виктор, и приготовилась позировать. Пока Виктор вытирал кисти, она гладила мольберт. Дерево было тёплым, и казалось, отвечает своим теплом на её прикосновения. Всё здесь было фантастично, куда ни глянь, даже груда использованных тюбиков на полу тоже напоминала что-то сказочное. Виктор закончил вытирать кисти, налил в синюю крышечку какой-то пахучий растворитель для красок и стал пристально разглядывать свою гостью. «По-моему, он хочет меня смутить, так, чтобы я покраснела, – подумалось ей, – нет уж, извините, господин художник, это мы ещё посмотрим. Я Вам не «маленький розовый путти», главное, правильно поставить актёрскую задачу». И она стала усаживаться на стуле, меняя ракурсы и спрашивая у Виктора, хорошо ли она сидит. Это действительно помогло – напряжение как рукой сняло, и она с облегчением вздохнула про себя: «Ну вот, главное, не смущаться, а остальное – дело техники; теперь пусть смотрит, если это необходимо для дела».
Пока он возился с фоном, они перебрасывались фразами, но вскоре он закончил и, велев ей замолчать, начал сосредоточенно работать. Она принялась разглядывать его картину, висевшую напротив. Неизвестно почему, её внимание больше всего привлекла чёрная псина с горящей шерстью на спине. И там же было подписано – «Горячая собака». «О! Это, наверное, знаменитые «хот-доги», – решила она, – и Кротова, наверное, они раздражают, раз он её такой обуглившейся изобразил». И она глянула на хозяина мастерской. Он в это время надевал очки. Посмотрев на неё, он перевёл взгляд на холст и снял очки. «У Виктора очки на цепочке, как удобно, надо себе для роли такие же сделать, буду снимать и надевать», – пронеслось у неё в голове. «Что это такое?» – спросила она у Виктора, взявшего в руки тонкую, длинную деревянную палочку. «Муштабель, – отозвался Виктор. – Му-у-у-штабель, – пошутил он, – опора, чтобы кисть в руке не дрожала, когда выписываешь тонкие детали». Она задумалась, глядя, как он работает. Но тут Кротов прервал её мысли, попросив сесть, как она сидела. Она повернула голову и опять увидела «Горячую собаку». «Нет, на Кротова было всё-таки интереснее смотреть», – и ей вспомнились пародийные стишки Леонида Филатова на «Муху-Цокотуху»: «Тихо. Он молчит. Она молчит. Самовар тем более молчит». И она снова усмехнулась про себя…
Наконец, первый сеанс был закончен, и в награду за хорошее позирование он снисходительно разрешил ей посидеть на его троне, – в углу у окна стояла огромная золочёная рама, посередине этой рамы стояло задрапированное кресло. Причём задние его ножки находились по одну сторону рамы, а передние – по другую. Выходило, что рама резала кресло и пространство на две части. Садясь на край кресла, человек всё ещё находился в комнате. Но облокачиваясь на спинку кресла, человек пересекал границу, обозначенную рамой, и оказывался за рамой, в картине, в другом измерении. Эта рама с креслом и называлась троном. Сидя на этом троне, поистине, к человеку приходили королевские ощущения. Виктор во всём был сюрреалистом.
…Портрет был готов после второго сеанса. С холста смотрело обворожительно-чудное создание – художественный образ, вскрывающий личностную сущность его владелицы и прототипа. Сюрреалистическая фантазия художника дополнила изображение многозначительными символами, соединив в них тайные и явные черты характера персонажа. Высокий королевский воротник из тонких чёрных кружев украшал классическое платье героини портрета и, словно обрамление изящной формы, притягивал внимание к её открытой шее и лицу. Лёгкие волны пшеничных волос ниспадали на худенькие плечи, чуть завиваясь на концах в слабые полуколечки. Нежные, плотно сжатые губы были аккуратно выписаны, их оттеняла едва уловимая улыбка. Серо-голубые глаза хрупкой девушки, казалось, постоянно меняли своё выражение, отражая то задумчивость, то печаль, то насмешку. Белое высокое солнце или луна, небо, затянутое розоватой дымчато-облачной пеленой, сиреневые скалы пустынной равнины рисовали на заднем плане фантастический пейзаж. А две маленькие тёмные фигурки, два полупрозрачных силуэта составляли сюрреалистический стаффаж. Любимый мотив с картины французского художника барбизонской школы Жана-Франсуа Милле «Анжелюс» – крестьянскую пару, мужа и жену, склонённых в вечерней молитве и слушающих на закате церковный колокол, Виктор Александрович схематично использовал в композиции этого портрета. Но мужская и женская фигурки не оживляли нереальности бескрайней равнины, а, наоборот, сливались с ней, превращаясь в фантастический мираж. Фантастичность этого неведомого, но невероятно прекрасного края земли, подчёркивалась ещё и невозможностью определить, что за белое высокое светило всё же виднелось на небосклоне. Для солнца уже поздно – молитва «Анжелюс» звучит на вечерней заре. Но в это время не бывает видно полной луны. Картина скрывала в себе загадку, и было интересно! Когда же она решила справиться об этом у Виктора, задав дамский провокационный вопрос, он отшутился с коварностью Мефистофеля, мол, это то, что ей больше нравится! Тут же вспомнилась цитата из Шекспира: «…Ну, пусть луна, пусть солнце – что хотите». Кротов ловко увильнул от ответа, сомнения остались неразрешёнными. «А, может, это Венера? – тогда подумала она, теряясь в догадках. – «Вечерняя и утренняя звезда», планета, которая видна незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца. Это Венера видна на фоне вечерней зари в виде высокой яркой белой звезды…» …А на Земле рядом с девушкой, в тон её одежды, цвела изящная, с пышной головкой, синяя лилия на тонком высоком стебле с тремя узкими гуттаперчевыми листьями. И эта лилия была, словно душа, вынутая кистью из тела девушки и помещённая рядом. Вдвоём они смотрелись загадочно и мистически. Мистически, как портрет Дориана Грея, и загадочно, как «Мона Лиза». (Кстати, Виктор не считал, что в «Джоконде» есть загадка). «Дама в синем бархате», – подписал Кротов с обратной стороны холста, поставил число и уселся на трон, с которого он обычно рассматривал свои картины.
Она продолжала глядеть на свой портрет и думала: «То, что говорил Станиславский о рождении спектакля, правомерно и для картины», – и вот ей довелось присутствовать при создании картины, при рождении своего собственного портрета. Глаза – это главное место в картине, где, как в зеркале, отражается внутренний мир человека. Глаза – была последняя деталь, которой художник завершил свою работу. Он осторожно подходил к этой детали, собирал, накапливал в себе впечатления о том, что должно отразиться в этих глазах, выражая попутно свои ощущения в каждом штрихе портрета. После того, как были написаны глаза, картина даже как будто полностью преобразилась. Открылся иной вид, иное настроение, иной смысл. Каждая чёрточка на портрете, каждая деталь, перестала быть просто эстетичной, а стала осмысленно красивой и одухотворённой. Не было глаз, и картина была безжизненна, хотя и чудесна.
Там на холсте она теперь была властительницей удивительного мира, который существовал по её законам внутренней гармонии. И было приятно обладать таким сокровищем.
«Волшебник! Волшебник! Вы настоящий волшебник, Виктор Александрович», – сказала она. Виктор был явно доволен. Он любил производить впечатление.
Как-то до отъезда во Францию Виктор пересматривал у себя в мастерской картины, сложенные в маленьких комнатках-каютках. Она знала, что он уезжает, и пришла с ним попрощаться. Виктор стал ей показывать свои работы, о существовании которых она даже не подозревала. Они сидели на полу и рассматривали холсты. Пол был усеян массой опилок, они приставали к одежде, и вскоре она извалялась в этих маленьких жёлтых опилках с ног до головы. Но это её только забавляло, поскольку походило на новогодний праздник, когда человек так же с ног до головы бывает обсыпан конфетти. Было весело. Виктор много рассказывал о своих картинах, объяснял какие-то подробности. Она слушала с удовольствием и интересом.
Обычно у него слова лишнего не вытянешь на эту тему. «Я не знаю, что это значит, не знаю, что я здесь хотел изобразить», – всегда отшучивался он. Но сегодня Виктор был расположен к беседе о своём творчестве. «Покажите мне вашего «Левия Матвея», который был на выставке, – попросила она, – мне очень нравятся ваши святые». Виктор вышел из комнаты и скоро вернулся с какой-то длинной картиной. Он прислонил её к стене и отошёл. Оказалось, что длинная картина состоит из трёх маленьких, соединённых вместе. В центре был Левий Матвей. По бокам другие два апостола. Зимнее дерево значительно увеличилось в своих размерах и занимало место на всех трёх картинах. Так что и все три апостола находились возле его ветвей и смотрели налево от себя.
«Это ещё не всё», – сказал Виктор и снова вышел. Он опять принёс такую же длинную картину, состоящую из трёх частей. Но на этот раз то же самое дерево стояло в весеннем цвету и обнимало новых трёх апостолов. Один из них был Иуда. Она определила это по его кошельку, в прореху которого была видна монета, – вот они тридцать серебряников. У Левия Матвея из прорехи онемевший от холода локоть выглядывает, а у Иуды деньги сыпятся. Несправедлив мир. Но в этом его суть и в этом его беспощадная правда. Новые три апостола смотрели вправо от себя. Между «зимними» апостолами и «весенними» Виктор поставил небольшую картину с изображением Иисуса. Теперь стало понятно, что апостолы смотрели на своего Учителя. «Это цикл – «Времена года»», – произнёс Виктор и снова вышел. Следующие три апостола находились под осенним деревом – на нём висел плод граната, а в руках один из апостолов держал яблоко, разноцветная кожура которого, напоминала осеннюю листву. (Гранатовое яблоко – мелькнул в её голове ветхозаветный образ). Цветовая гамма картин изменялась, плавно переходя с одного триптиха на другой.
– А где же лето и ещё три апостола, – спросила она, – здесь только зима, весна и осень? Должна быт ещё одна часть.
– Я её замазал, – ответил Виктор, – мне надоело.
– Как надоело?! – переспросила она с нескрываемым протестом в голосе.
– Да Вы просто обязаны её дописать, – стала убеждать она его. Одна только идея уже многого стоит. Этот необычный замысел Вы просто обязаны осуществить. Так увидеть… Вы не просто соединили Иисуса и его учеников с природой… Вот у Леонардо фреска «Тайная Вечеря»… потрясающая, мощная (когда смотришь на апостолов) и в то же время сокровенная, тихая (когда смотришь на Иисуса). Там тоже апостолы сгруппированы по три человека (как-то по стихиям, что ли, или даже по знакам зодиака… не знаю…) Но изображённые фигуры физические, монументальные, они среди людей. А Ваш Иисус и апостолы… удивительно воздушные, метафоричные, они вне этой жизни, у них своё бытие… мне очень нравится такое прочтение. В нём неожиданный смысл, иная глубина, где соединяется философия, вера и Ваш романтический сюрреализм.
При слове «Леонардо» Виктор поморщился – он не любил, когда его с кем-то сравнивали. И, конечно, может не без оснований, был о себе высокого мнения. Он был самодостаточен и индивидуален. О самомнении этого человека она сделала вывод, судя по его ответам, в которых сквозила ирония над окружающим миром. Нет, это не было защитой, он и над ней смеялся, но очень ласково. И она вскоре привыкла к его манере общения и не обижалась, хотя в подобном стиле с ней до сих пор никто никогда не разговаривал, включая солидных профессоров из её института. «Пусть себе смеётся», – считала она и называла про себя его привычку «хорошим тоном» Виктора Кротова. Он художник. И картины – это лучшая сторона его натуры. Она молча разглядывала его апостолов и Христа, которые просто её заворожили.
В своих рассуждениях о картинах она могла апеллировать не к искусствоведческим знаниям, которых у неё не было в достаточной мере, а лишь к своим чувствам и эмоциям. И будучи человеком творческим, она доверяла своим впечатлениям.
«Да, он художник, он замечательный художник»
– Какой вы всё-таки талантливый человек, – вымолвила она наконец. Ей вновь представился Летучий голландец, бороздящий нескончаемое заснеженное море, или уже настоящее… почудилась буря и скрип петель каютной двери… 1641 год… И вдруг захотелось сказать: «Мне кажется, Вы гениальны», – но она побоялась, что это может прозвучать фальшиво и выразит нечто призрачное, под стать старинной легенде о корабле. Подумалось ей и о том, что право на такие оценки принадлежит Времени. Об этом можно говорить из будущего, но не из прошлого, в котором она сейчас находилась под воздействием магии «Летучего голландца». Поэтому она ограничилась словами о таланте, надеясь, что ещё представится случай высказаться иначе. Она взглянула на часы, которым Виктор когда-то, видно давно, нарисовал далианские усы. Часы не ходили, но они будто говорили, как в старом фильме про Золушку: «Ваше время истекло. Кончайте разговор. Кончайте разговор».
Виктор поблагодарил её за комплименты и на прощание с силой пожал руку. Она спускалась по крутой железной лестнице, осторожно ступая на занесённые снегом ступеньки, боясь поскользнуться. Она покидала корабль-призрак, но покидала счастливая, – посвящённая в тайну бесконечного художественного полёта мысли. И у неё было подтверждение, что это не сон, так как после «викторианского» рукопожатия болела правая рука.
«Да, – размышляла она, – у Кротова большие сильные руки, как он только не ломает кисти – не понятно. Хотя, нет, ломает, недаром на полу у его мольберта столько сломанных кистей! Ему надо в руки – копьё, а не кисть. Нет, он не Мефистофель, – он Дон Кихот, одинокий рыцарь печального образа». Она шла по улице, равномерно и тихо падал снег, и ей вспоминались стихи Геннадия Шпаликова:
Бывают крылья у художников,
Портных и железнодорожников,
Но лишь художники открыли,
Как прорастают эти крылья.
А прорастают они так –
Из нечего, из ниоткуда.
Нет объяснения у чуда,
И я на это – не мастак!
На этом, пожалуй, можно поставить точку или, вернее, многоточие. Конечно, можно многое ещё добавить, но излишние подробности вредят описанию. И прав был умудрённый опытом Микеланджело, когда пришёл к выводу, что надо оставлять зрителю место для фантазии, и провозгласил принцип «Нон-финито» – не закончено. «Non-finito», – говорим мы.
член СТД РФ, член МГО СПР, действительный член ПАНИ, профессор











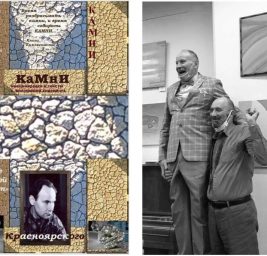


















1 комментарий
Инга
02.12.2020Получила огромное удовольствие от бесконечно художественного полета мысли автора, просто талантливо. Спасибо.