Новое
- Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, известнейший деятель эпохи Просвещения
- Положение не обязывает
- В Есенин-центре – открытие выставки «Настоящий»
- Блеск жизни Жульет Бинош
- Рыцарь второго плана
- Олег Зубков быстро пошел на поправку после нападения льва и уже дал пресс-конференцию для СМИ
Н.В. Гоголь — антиаутсайдер
11.06.2021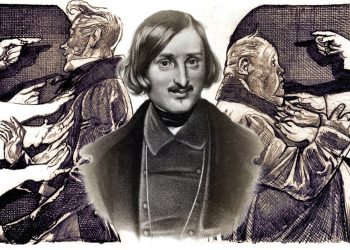
Ох, уж этот славный-славный дрозд, поющий по утрам, на розовой заре, на золотом солнце, он словно вышитый гладью, не верится, что такого может создать матушка-природа! Скорее всего, он создан самим Богом без участия природных сил, без этого материнского пухового гнёздышка, без этого выщипывния мха, без вылупливания из яичек матричных, без первого птичьего вскрика.
Не иначе – это так. Истинно так!
Он был. Он пел. Его сладкоголосое фюить-фюить, его непередаваемая на земном языке трель звучала. И мы слышали её! И Гоголь в своем произведении в этой певчей «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» наверняка слышал песню лесного миргородского дрозда. Иначе, как можно выжить после такого диалога?
— Я нарочно старался узнать, — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, — каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд, года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, — хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом: приезжаю я к нему…
Н.В. Гоголь ««Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
И как славно узнать, что бобончик можно устранить, фальшь испепелить. И жизнь начать сначала! Единственно, что нельзя сделать: помирить двух уважаемых людей между собой. Ах, как бы хотелось! Как бы мечталось. Но всему причина – охрипший дрозд! Его омертвелый голос, его полузвериный клюв, заострившийся от бессилья. И кто бы подсказал, как вернуть голос? Как?
О…если бы знать…
— К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым, — при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, — которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить… А! слыхом слыхать, видом видать… — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.
Н.В. Гоголь ««Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
А вот тут-то бы дрозд-то взял бы да запел, однако! Как я мечтаю о таком счастье! Чтобы голос его зазвучал, чтобы мы все замерли, чтобы дрожь по телу, мурашки по спине! Да не простые, не мелкие, не таракашки, как на картине в комнате, а прямо-таки килограммовые, лакированные, чтобы ласково так лапками перебирали, взбираясь по позвоночнику. И чтобы не жаль этого позвоночника, как флейта звучащего, дроби мои кости, кроши позвонки! Озвучь, озвучь себя до изнеможения! Тогда я в ноги тебе кинусь, руками обойму, восплачу!
Но, увы, дрозд охрип навеки, лишь глазами, что бусинками вертит, клюв открывает, а оттуда ни трель, ни сказ, ни былина, ни басня, а чушь какая-то про вурдалаков, волкодавов, татей, про нечисть какую-то. Тьфу-тьфу. И держать неохота и выбросить жалко. И зачем тебе, дрозд, мои образы «царя юродивого», «Шопена чьей глухотой слышу», «Баха, чьей слепотой вижу», мои же они! Только мои! Но мне не жалко, трезвонить не стану, ибо выросла. Могу тысячу ещё придумать таких открытий. Например, слышу, как тысяча глухих! И меня можно, как на металлолом по кусочку сдавать, можно Бога из меня выковыривать и тащить кипой на макулатуру. И отчего всего два лица у меня. Почему не три, не четыре? И не двести пятьдесят. А, дрозд? Осипший твой, испевшийся… как в его уста вложить, что нельзя более Ивану Ивановичу ссориться с Иваном Никифоровичем. Ай, давай-ка помирим их! По-Гоголевски с улыбкой, с шуткою, с лёгкой иронией! Того и гляди ты, дрозд, излечишься от бессловесности своей при тысяче слов, от безголосости при многоголосии!
О, многоголосие одного горла!
О, многоцветие одного цвета!
Ан нет, всё-таки Иван Иванович судье заявление принёс. Помилуй мя, читать дальше повесть эту. Читать и не расплакаться! А ведь судья и чаю подал уже вторую чашку и меда предложил и пряника!
— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно: гусаком, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен…»
О, нет, нет, только не это! Зачем в суд? Зачем заявление? Буквы на нём длинные, обидные все. Слова пышут ядом, поклепом. А ведь я говорила: это было давно, тысяча лет тому назад! И совершенно случайно. И не нарочно. По глупости!
Все люди, даже самые умнейшие, благожелательнейшие, добрейшие, все совершают ошибки! У меня тоже крали: разъятость на свет крали, разъятость на тьму крали, дербанили так, что пух летел. Но ведь не в этом дело-то, а в том, чтобы научить человека, дабы неразумный он был тогда, и уж сильно прилюбилась строка моя, ажно прикипела к его мыслям. Оно ведь как бывает от избытка чувств, от любовного трепета, от влюблённости в слово.
А кто не грешен – бросьте камень!
***
Что до ссоры было с Иваном Ивановичем?
Что до ссоры было с Иваном Никифоровичем?
Словно пряником марципановым,
леденцом, шоколадом плиточным.
— Хочешь, в горсть бери, сколько надобно,
чай отхлёбывай по три чашки ты!
…Над Миргородом слаще ладана
воздух трелевый да фисташковый!
Бутоньерка ли, пиджак с лампасами
да бекеша из шерсти шитая,
смушки прямо с ягнёнка связаны,
с трёхнедельного между нитями.
Красота! Гляди, приходи, входи!
Сад вокруг растёт: груши, яблони.
И, казалось, жизнь, что пирог в груди,
сладко ягодный, как у барыни.
Не царапайте, не цепляйте вы.
Гусаком-рябком обзывать нельзя.
А меня за что? Волколаками,
А меня за что? Да удавками.
А меня за что? Вкруг груди – петля?
Так с петлёй иду, да иду, бреду
со свечой, с огнём, с фонарём в руке!
То сорокою, крачкой, какаду,
то вороною, то совсем никем.
А на той петле не одна вешу,
здесь качается моя родина.
И берёзы все! И осины тут!
И ещё весь путь мною пройденный.
И не пройденный, и не хоженый.
И небес, и солнц много из свинца.
Посчитай с тех пор два моих лица,
что обтянуты тонкой кожею.
Отчего же два, а не сорок пять
от ночных утех до дневных похвал?
Прохожу киоск: пишут, что сдавать
можно кучу книг, словно бы металл
и макулатур! Каждый день сдаю
я кусок себя, рву я в кровь слова.
Не забудь предлог с запятою «а».
Не забудь предать всю мою семью.
Что до ссоры той, что в Миргороде?
До Ивановича, до Никифоровича?
Интересней мне да у Гоголя
и поплакать мне и повыкричаться!
Да какой-такой из меня вахлак?
Да какой-такой из меня дурак?
Стоеросовый, барбарисовый?
И откуда вздор, и такая чушь?
Видно, мозг совсем поубавился.
Не брала твоих деревянных груш,
ни молитв не чла, ни акафиста.
Исцеление! О, причисти мя!
Избавление от семи грехов.
На Полтаве суд у Ивановича,
под Полтавою у врага его.
Скучно, скучно жить во Миргороде!
Стар Иванович.
Стар Никифорович.
Дождь, как из ведра, да на голое,
словно поле весь нынче выльется!
Ой, не ссорьтесь…
ой, не могу…
Но если поссорились, так не ходите по судам, не просите защиты у людей: люди бы и рады помочь да не знают как. Вещают. Улещают.
А есть такие, кто, наоборот, огонь раздувают. А и без того косточки все сгорели, пеплы одни витают. И у меня нет больше ни одного города не сгоревшего, улицы, площади. Вся грудь не в медалях, а в пеплах! Но читаю далее: свинья украла просьбу. Вот ведь что! Сжевала она бумагу сию. И не поперхнулась! Глаза у свинки круглые, безресничные, тело у неё дебелое.
Мой сосед тоже свинью держит на участке. Но не на своём, а на соседском. Этот участок пока простаивает, ибо находится у леса, а я рядом взяла да сарайчик сколотила из досок. И неплохой вышел сарай, можно летом там отдыхать, а дома сдавать в найм дачникам. И озеро можно даже самой нарисовать на холсте, и лодку, и рыбаков. И даже дрозда Гоголевского! Но не простого, а сказочного. И в клюв его целовать, и тело его гладить, пух перебирать. Ай, голосистый он! Ай, сладкоголосый! Заслушаешься!
Песня его золотая…
«Одно средство оставалось: примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал…»











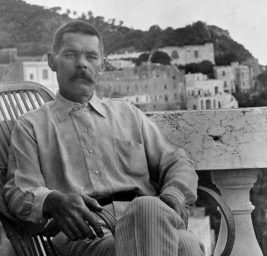




















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ