Новое
Рецензия на монографию О.И. Колесниковой «Поэтическая речь в мире детей» (Киров, 2002, 183 с.)
02.04.2022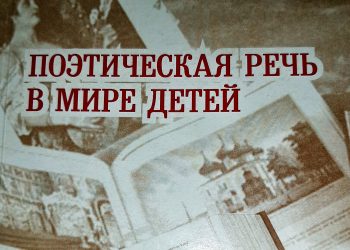
Считается, что учебник живет полноценной жизнью пять лет, тогда как монография – 50 лет, и для гуманитарных наук это более чем справедливо.
Действительно, не сразу открытие ученого доходит до потенциальных разработчиков, но это не делает это открытие запоздавшим и невостребованным.
Так получилось и с монографией О.И. Колесниковой, опубликованной до защиты докторской диссертации в Твери двадцать лет тому назад. Я выступала тогда официальным оппонентом и в своем отзыве заметила следующее:
«Пожалуй, наиглавнейший результат всего теоретико-экспериментального исследования О.И. Колесниковой, – открытие базового уровня художественной компетенции, явные признаки которой прослеживаются у 70% 10-11-летних детей».
Нельзя не аплодировать идее, что социально-гуманитарный аспект значимости полученных результатов говорит о готовности молодого социума перенимать эстафету параллельного символического бытия еще и в поэтическом тексте.
Идеи эти предварительно апробировались в монографии, о которой и пойдет сейчас речь. Спрашивается, как получены такие результаты? Ответим. Во-первых, был проведен широкий охват детей, без выделения такого признака, как «одаренность». Действительно, эксперименту подвергались испытуемые самых различных групп: и из обычных школ (23 школы), и из литературных судий, студенты, поэты-профессионалы. Во-вторых, их возраст был тоже различный: и пятилетние, и двенадцатилетние, и восьмилетние, и четырнадцатилетние…
В-третьих, поэтические тексты, которые предлагались детям, тоже были различны: классическая поэзия соседствовала с фольклорной, талантливые, даже пафосные стихи с обычными, при этом действовал принцип минимизации контекста. Это хороший принцип, так как он не перетягивает внимания на стих в целом, а сосредотачивается на языке-посреднике. Ну и конечно, само обилие «экспериментов». При этом исследование проводится по всему периметру лингвистики: и фоносимволизм (обнаружение «С» в трактовке стиха), и частеречные предпочтения («взрыв» использования прилагательных к 10-11 годам), и отличия образов первой ступени сложности (эпитет) от интерпретации образов 2-й ступени сложности (идиосинкразия), и окказионализмы и… далее со всеми остановками. Вот как написано в предисловии к монографии.
«В этой книге речь идет о крайне важной стороне владения языком – о способности чувствовать эстетическое качество языковых средств. Эта способность, заложенная в нас природой, – одна из самых загадочных! – дает возможность наслаждаться звуками, ритмом, смыслом… Радоваться увиденному в воображении и неповторимому в действительности» «Все ожидаемые ответы детей на вопросы, которые вы найдете во второй части нашей книги, будут «находками», причем необычными. Они не имеют материального выражения, физически не ощутимы, но цена их неизмерима, потому что это «продукты», или результаты, определенной работы читателя (слушателя) стихов»
(с. 3).
В монографии две части: поэтическая литература как материал к диагностированию способностей детей (научно-методическая рекомендация) и собственно диагностирование. В первой части объемом в 50 страниц рассмотрены вопросы, касающиеся, во-первых, развивающего потенциала поэтического текста, во-вторых, отличий восприятия стихотворения от восприятия других видов текста, и далее: особенности детского восприятия стихов, тайны открытий во время чтения стихов, языковые особенности поэзии, адресованной детям, и даже тексты-ловушки: Имел я большого приятеля. Если встанет на стул, дотянется до выключателя (О. Григорьев).
Представим всего одно рассуждение автора монографии.
«Успех прочтения стихотворения, как и у взрослых, определяется у детей чувством эстетического удовольствия. Оно возникает не столько в результате узнавания нового, сколько в результате понимания смысла и возникновения ощущения другого, нового качества. Для выяснения того, успешно ли прочитано стихотворение и возникло ли ощущение нового качества, нужно узнать наполнение каждого из следующих «продуктов» читательского труда: ЭМОЦИЯ – АССОЦИАЦИЯ – ОБРАЗ – ПОНЯТИЕ»
(с. 31).
И дальше эти продукты анализируются по схеме
1. Полнота – неполнота.
2. Глубина – поверхностность.
3. Цельность – фрагментарность.
4. Эстетическая реакция (удовольствие) – «наивно-реалистическое» восприятие.
Но какими же удивительно широкими эти рамки иногда оказываются! Маленький «носитель языка» поражает нас своими открытиями гораздо чаще, чем взрослый. И в основном, «через» язык и благодаря ему. Потому что язык, через который ребенок, как через порог, входит в мир, несет в себе для него гораздо больший смысл, чем для взрослого. Когда ребенок, например, послушав повести о Незнайке, объясняет взрослым, что у этого бесшабашного веселого человечка была шахматная лихорадка, а него – спичечная (он любит зажигать спички, а от взрослых знает, что это нехорошо), то его высказывание свидетельствует не только о способности проводить аналогии и искать аргументы (мальчик оправдывается). Он осознает метафорический смысл слова «лихорадка», расширяет круг его сочетаемости на основе смысловых связей, включая язык в свою жизнедеятельность.
(с. 31-32).






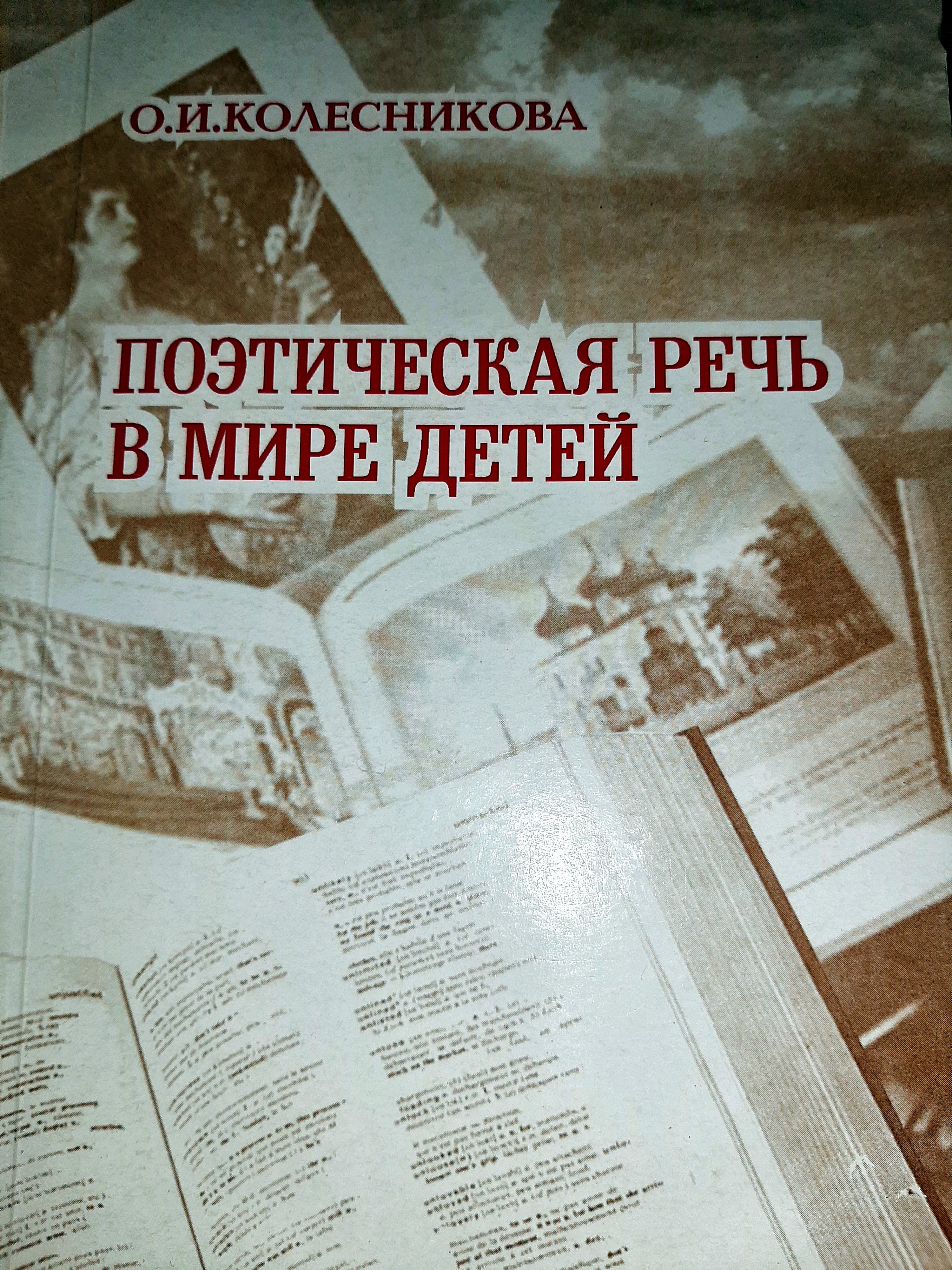


























НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ