Симфония тайны и боли
15.03.2021
/
Редакция

Максим Замшев написал роман о музыке и музыкантах. Появление на свет «Концертмейстера» неудивительно, если учесть то, что автор сначала был музыкантом и именно из музыки пришел в литературу, и поэтому музыкальный мир ему внятен и понятен — и событийно-сюжетно, и в живых наблюдениях, в живых эффектах личной памяти и собственного опыта.
После музыкальной стези Замшев писал стихи, и более чем объясним переход автора к прозе — это классический путь русского поэта. «Концертмейстер» — не дебютная книга, Замшев — до «Концертмейстера» — автор четырех романов. И в пятой своей книге он обратился к подлинной истории, к действительно существовавшим внутри музыки людям: внутри непростого бытия советской музыки. Обозначение эпохи здесь о многом говорит.
Читатель ждет от произведения, в особенности от исторического романа, некого драйва, молчаливо заданной увлекательности, установки на динамизм и активно раскручиваемые сюжетные ходы. Таковы негласные условия романного жанра.
Но романы бывают разные. Спокойные, размеренные, по метроному — философские и совсем неторопливые: ну, конечно, не Largo или Adagio, так по крайней мере Adagietto или твердое, прочное Andante. Еще никто не отменял в литературе, в крупной форме, спокойствия (иной раз оно обманчиво…) повествования или даже взгляда через горы времени и пространства — почти эпического.
А вот стилистически «Концертмейстер» совсем не эпос. Хотя время действия — да, советское, причем подчеркнуто советское, центрально-советское: с конца «сороковых роковых» до середины 1980-х. Мы погружаемся в жизнь музыкантов, в жизнь семей, в том числе и семьи Храповицких-Норштейнов — по сути, «Концертмейстер» вполне может носить жанровое наименование семейного романа-ретро; этот с виду «уютный» жанр бессмертен, он время от времени входит в моду у читателей, издателей и авторов, так, как в недавнем прошлом вошел в моду в мире искусства Советский Союз и все, что с ним связано; но тут совсем не в этом дело. А дело в том, что это трагический роман, и у этой трагедии уже есть литературные традиции.
Ужасы, боль, горе, отчаяние, оболганные люди, путаница судеб, невероятные и трруднопереносимые запреты властей на исполнение, показ, обнародование рожденных на свет произведений искусства, страх лагерей и тюрем, доносы и их отрицание, правда на уровне героизма и ее антипод — обман — на уровне предательства Иуды; подлоги, внезапно оказывающиеся истиной, и святое, на деле предстающее откровенной грязью, — нет нужны перечислять приметы тяжелейшего в истории России сталинского времени, которое сейчас, как ни странно, стало модно приподнимать и ставить на исторические котурны, всячески оправдывать любой шаг внутри нее и даже восхищаться ею.
Максим Замшев не дает в начале форте и фортиссимо. У него большой и богатый опыт жизни в музыке, чтобы начинать с громоподобных аккордов. Текст «Концертмейстера» вообще лишен всякого пафоса и эмоционального пережима. А работа автора с временем удивительна. Люди говорят о своих жизнях, и это мы, читатели иной эпохи, — их зеркала. Мы отражаем то, что было там и тогда. Отражаем здесь и сейчас, становясь негласными, невидимыми героями романа. Это эффект «звучащей паузы», о которой любил говорить Александр Скрябин…
А сама атмосфера романа, во многих текстовых фрагментах и временных моментах почти документальная (всплывают имена Дмитрия Шостаковича, Святослава Рихтера, Рудольфа Баршая и других знаменитых музыкантов советской поры…), подчас изображается с точно прописанным эффектом погружения, это некий интеллектуальный ретрит:
«Весна приходит в город на Неве, преодолевая целую череду трудностей. Из февральской темени, из стужи в старинных парадных с огромными лестничными пролетами и прихотливо изогнутыми перилами, из мокрого ветерка над серыми каналами, из мороси гулких проходных дворов она выбирается на проспекты, перекрестки и площади и своим желанием и жаром согревает снега, превращая их в огромные, то бегущие куда-то, то застывающие лужи. Потом она дает солнцу высушить эти пресные слезы уходящей зимы, иногда остывает к своим затеям, и тогда высохший город твердеет в предвесенних заморозках, а иногда снова воодушевляется, и тогда петровскую столицу наполняют новые запахи, чуть перегретые и пряные…»
Можно спорить о том, портретен ли герой романа, композитор Александр Лапшин, или автор дал волю своей фантазии и обошелся без исторического прототипа. Прототип у Лапшина бесспорно есть — это замечательный, сейчас, увы, полузабытый и прекрасный композитор Александр Лазаревич Локшин. По прочтении романа я захотела услышать его музыку.
А музыка, бессловесная и таинственная, порой воздействует на работу души гораздо мощнее, чем сплетение разноплановых событий, из которых складывается общая романная композиция.
Симфонии Локшина, его Реквием — это библейски мощные музыкальные памятники великой трагической эпохи. Чем тяжелее давит пресс власти и режима, тем горячее и безусловнее (и неистовее, страшнее!) сопротивление художника. Страшное время всегда предполагает, среди своих чудовищных технологий, технологии забвения, изоляции и оборотничества. Переложить на безвинного человека собственное зло и собственные грехи — это и есть близость Судного Дня.
Мы переплыли это апокалиптическое время. Автор, с виду спокойно, а внутренне напряженно и драматично, его запечатлел: воссоздал.
Роман Максима Замшева — это тайно скрытый за завесой спокойных раздумчивых (и порою документально-правдивых!) слов Реквием; это подспудно звучащая — за прозой — музыка, и если на страницах романа встают фигуры и слышатся голоса Марии Юдиной, Дмитрия Шостаковича и других знаменитых наших музыкантов, — тем более понятно, что романный Лапшин, так же, как его прототип Александр Локшин, имел счастье беседовать с Богом. А не быть навеки оболганным и оплеванным.
Роман обманчиво бытовой, обманчиво и утонченно жизненный, если не сказать житейский. Его наводняют простые мелодии человеческих горестей и радостей, даром что главные действующие лица — музыканты. Описание как описательность, изображение жизни как почти летописи, акцент на ее мерном и медленном течении, на дневниковом ее запечатлении — да, это все есть в книге. И кому-то этот темпоритм покажется скучным, кому-то и впрямь захочется гневного взрывного форте или сумасшедшего сюжетного Allegro. Но, думаю, это абсолютно сознательный прием, выбор внутреннего (музыкального!) равнинного течения романа, хронологически охватывающего несколько десятилетий жизни страны. Почему я повторяю это слово — обманчивый? Да потому, что роман — шкатулка с секретом, чемодан с двойным дном. Этот романный механизм открывается легко и просто: сплетение яркой темы и таинственного контрапункта рождает объемную Бахову фугу всей композиции, а сложная человеческая полифония на деле оказывается печальной, в ночи, одинокой колыбельной самому себе, старику. Старик Лапшин, старик Отпевалов, старик Норштейн… Люди стареют и умирают. А музыка — вечна.
Здесь три важных для понимания времени героя (три — сакральное число): пианист Арсений Храповицкий, работник МГБ Аполлинарий Отпевалов, композитор Александр Лапшин. Лапшин в тексте как будто за кадром. Он, если брать ассоциации из изобразительного искусства, написан прозрачными, почти призрачными лессировками. Вообще удивительны эти художественные приемы Замшева: он тут тяготеет к скромности как к тайне, к незаметности как к неуловимости и неуязвимости, к молчанию, за которым стоит страдание, но не дай Бог его высказать, тем более — выкричать на весь свет:
» Кто-то должен был пролить свет на ту его часть, что так долго пребывала в глубокой тени…»
Что такое рассказ человека о жизни? Не самое дли это драгоценное в жизни? Время уплывает, события гаснут, тают, исчезают… и никакая, даже самая дотошная и правдивая летопись не отразит нам бесстрастным вечным зеркалом живую боль и живое торжество. «Гаснут во времени, тонут в пространстве / Мысли, событья, мечты, корабли…» (М. А. Волошин). Мегаинтонация неторопливого рассказа, взятая автором, призвана погрузить читателя в колорит эпохи медленно, но верно. Мы избалованы динамикой. Мы жаждем Allegro и даже Presto, и даже Prestissimo. Но симфония в прозе Максима Замшева архитектонически выстроена на совсем иных началах.
Как люди любят, ненавидят, терпят друг друга, разлучаются, встречаются опять, по прошествии долгих лет? Как они предают и прощают? Как они переживают одиночество и даже Богооставленность (неудивительные в те времена!), как спасаются — и как гибнут? К чему каждый из нас приговорен — к живой музыке или к гробовому, навеки, молчанию? Мы привыкли — в романе, в кино — к чудесам действия. Нам потребен экшн. Нам подавай дела, а не раздумья. Спокойный разговор, за частоколом слов которого стоит великое страдание, или размышления вслух о превратностях жизни мы сейчас часто не способны воспринять как самоценность.
«Часы тикали, стрелки ползли, а телефон молчал. Около двух часов дня ощетинившийся рычажками аппарат ожил, заверещал, Арсений бросился к нему, но вместо неподражаемого голоса любимой из трубки раздался незнакомый мужской голос, спросивший отца.
Несколько раз начинался дождь, наполняя квартиру шуршащей, холодной свежестью, раздражая слух неритмичными, унылыми стуками капель. Потом показалось недовольное солнце, осмотрело намокший, захлебывающийся влагой город и быстро исчезло за непроницаемым серым покрывалом ненастья…»
Есть одна крупная, масштабная народная трагедия — тоталитарный строй, подминающий под себя личность, управляющий не только культурными процессами, но командующий и самими человеческими жизнями. И есть одна маленькая, локальная человеческая трагедия пианиста Арсения Храповицкого — перебитые в детстве крышкой рояля пальцы. Указательный палец сросся не так, как надо. Арсений замечательно играет на рояле… один. Но выход к большой публике закрыт для него.
Физическая травма музыканта иной раз выковывает из него ярчайшую личность. Глухота Бетховена и Дворжака, слепота Иоганна Себастьяна Баха… Замшев сознательно не усиливает, не укрупняет мрачные, трагические акценты на этой личной трагедии. Он пишет ее скупыми, почти графическими штрихами. На меццо-пиано, пиано. Иногда даже на пианиссимо.
В выборе такой композиционной динамики есть своя опасность. Если вспомнить величайшие достижения мировой симфонической музыки, мимо нас не пройдет воспоминание о симфониях Бетховена: наряду с идиллией там рядом выплески грандиозной энергии, гроза рядом с пасторалью, любовная кантилена рядом с военной канонадой… Искусство часто построено на законах контраста. Но, думаю, Максим Замшев не нарушает эти законы (он прекрасно знает о них); просто он сделал в романе свой интонационный и эмоциональный выбор. И идет этим путем:
» Солнце уже перекатилось на вторую сторону неба.
Около самой стены, в тени, ему попалась свободная скамейка. Он почти упал на нее. Сердце тяжело билось, язык во рту тяжелел горькой сладостью, голова начала кружиться. Он закрыл глаза, пытаясь таким образом остановить крутящуюся безнадежность своего бытия.
Пахло речной водой.
Теперь он слышал только звуки, в них ветер создавал контрапункт пляжному гомону, а его собственная песня осталась только в горле, в виде судорог тоски, утопить которую в череде застолий, как выяснилось, так и не удалось.»
Вымышленное перетекает в биографическое. Жизненное в житейское, бытовое. А быт на глазах вдруг становится высоким символом. Арсений — герой-символ. Он олицетворяет мученика, пострадавшего от руки судьбы, Рока, и как не вознаградить героя-страдальца заслуженной радостью? Отпевалов — тоже живой символ-знак. Он — человек — в этой симфонии характеров становится лейтмотивом, одновременно и зловещим и горьким, и мрачным и беззащитным. Его тоже настигает Рок. Рок тоталитарной системы, беспощадной не только к жертвам, но и к своим работникам. Да, по сути, за каждым персонажем стоит незримый Рок — и в этом скрытая, абсолютно не навязываемая читателю античность, образная и символическая классичность текста:
«Когда он вставлял ключ в замок двери своей квартиры, откуда‑то выросли два парня в милицейской форме.
– Гражданин Отпевалов! Вам придется проехать с нами. Вы обвиняетесь в убийстве гражданина Кравцова и в покушении на убийство гражданина Огурцова.
Какие же смешные фамилии у этих даунов! Один, значит, все же выжил. А второй – нет.
Он всегда славился тем, что был способен думать и действовать намного быстрее среднестатистических людей. Вот и теперь он мгновенно докрутил ключ до конца, влетел в свою квартиру, успел похвалить себя за то, что в свое время выбрал жилье на последнем этаже, добежал до окна, выбил палкой стекло и бросился вниз.
«Когда-нибудь власть в этой стране снова полностью перейдет к нам».
Последняя его мысль умерла вместе с ним.»
Конечно, притягивает внимание гений Лапшин. И автор делает интересный ход — он его прописывает менее всего ярким и рельефным, более всего незаметным и скорбно-скромным. Вспоминаю знаменитое полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына»: там герои уходят вглубь холста, во тьму, и чуть просвечивают из мрака их слегка золотящиеся лица. Эта тема в симфонии, этот голос полифонии, романной текстовой фуги прячется искуснее некуда. И это тоже, думается, умысел. Не выпячивать самого гениального и самого трагического героя (носителя трагедии, сопоставимой с обреченностью Иуды в Евангелии!), а наоборот, отодвинуть его в угол, за драпировку времен, за занавес происходящего, в тень других судеб.
Словесная симфония истаивает на долгой тихой ноте. Эта нота — снова творчество. Композитор Норштейн садится за рояль и начинает «наигрывать, а потом записывать какую-то мелодию. Зарождался замысел». То, чему суждено родиться, появится все равно. Это судьба.
«Концертмейстер» Максима Замшева — роман судеб, роман семей, роман эпохи, но более всего — роман музыки. Для меня это роман памяти Александра Локшина. Пусть перед текстом нет посвящения, но это воистину так.
Елена Крюкова
Максим Замшев. «Концертмейстер». Москва, «Азбука», 2020 г.











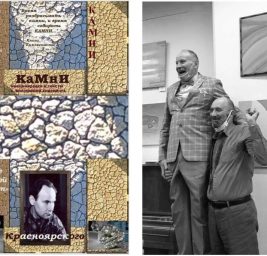



















НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ