Ляман Багирова. «Павел Никанорыч». Рассказ
14.10.2022
Всем детям, погибшим в войнах, посвящается
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок —
Последний гражданин села.
С.Маршак
Павел Никанорыч Скрепин, бывший пилот гражданской авиации, а ныне пенсионер, увлекался на досуге всем, чем только можно. Легче было перечислить то, что не входило в круг его хобби, чем то, на что падал его жадный до жизни взор. Он собирал мозаику из расколотых фарфоровых чайников, рисовал акварелью (масло недолюбливал – считал тяжелым для воздушного искусства живописи!), играл на гитаре, настаивал водку на черной смородине – получалась фирменная темно-розовая «скрепинка», составлял кроссворды, вырезал и выжигал по дереву, делал панно из разноцветных кристаллов соли, которую сам же выпаривал и окрашивал. И даже пытался выткать коврик на собственноручно собранном ткацком станке. Но потом бросил эту затею – уж больно подтрунивали над ней жена, дети и внуки. Беззлобно, но постоянно!
Занимался садоводством: хвастался знакомым необъятного размера тыквами, которые ему удалось вырастить, трясся над специально огороженным уголком сада, который засадил ценным видом крокусов и по осени собирал в изящные шкатулки невесомую драгоценность – шафрановые тычинки. Они источали тонкий терпкий аромат, и жена Павла Никанорыча добавляла их в праздничную сладкую выпечку.И исходили нежным пряным духом высокие ноздреватые пироги с яблоками, булки с маком и творогом. И радостно становилось на сердце от этого духа. От него веяло покоем и уютом. Как и от большого отцовского самовара, по-стариковски ворчащего на столе. И от расписных чашек – Павел Никанорыч знал их узор наизусть, мог повторить с закрытыми глазами все линии знаменитого хохломского рисунка «травка» и все же не уставал удивляться человеческому таланту, творящего красоту.
Cписок «хоббей» Павла Никанорыча можно было бы продолжать и продолжать. Он обожал стряпать, причем отдавался этому делу со всей страстью. С ловкостью фокусника он разбивал яйца об угол плиты, легко взбивал, и его белая, изнеженная, вовсе не авиаторно-штурвальная рука так и порхала в воздухе! Что-то перетирал в ступке, принюхивался, недовольно покачивал головой, добавлял из заветных холщовых мешочков то щепотку майорана, то душицы, то черного перца и снова перетирал. Забеливал яичную смесь сливками (молоко – фи! – бюджетный вариант! А высокое кулинарное искусство не терпит экономии!), добавлял пыль пряностей, колдовал над чугунной сковородой ( для каждого блюда – отдельная посуда!) и наконец – ах, бейте в литавры, вступайте струнные! — солнечный, пышный, пряный омлет ложился на керамическую тарелку! Заранее подогретую, чтобы не опало яичное чудо раньше времени, и красную, чтобы гармонировало по цвету!
А уж в засолке и заготовках разных не было Павлу Никанорычу равных. Уж на что жена была ревнивая хозяйка – моя кухня, и все тут!- но и она смиренно отсиживалась в комнате, когда Павел Никанорыч, священнодействуя, погружал руки в таз с нарезанными овощами. Солил, жамкал, ворочал тяжелые пласты капусты, перцев, баклажанов, огурцов и прочей огородной братии. Кухня наполнялась острым соленым запахом, а Павел Никанорыч уже угадывал в этой сырой массе рождение шедевра – неповторимых солений по-скрепински. И когда они, яркие, словно разноцветные фонарики, сдобренные укропным и сельдерейным семенем, подавались к столу, Павел Никанорыч всякий раз волновался. Не ударил ли в грязь лицом, не ошибся ли в составе продуктов? Вдруг не одобрят дети и внуки?! А они и без того редко приезжают…
И, лишь убедившись, что едоков от стола за уши не оттащить, ликовал: «верен глаз, верен! И память не подводит!»
А еще Павел Никанорыч писал. Уму непостижимо, как находилось у него на это время, но не одна тетрадка была исписана его мелким, убористым почерком. Писал (и довольно талантливо) стихи, романы, мемуары, принимал участие в литературных конкурсах, завоевывал какие-то призы. Издал даже несколько книг и щедро раздаривал их друзьям. Те бурно благодарили и, придя домой, лениво пролистывали несколько страниц. Потом убирали на полку, и книга стояла там, радуя глаз глянцевым корешком с надписью «П.Н.Скрепин. Сочинения.»
Автор догадывался о «полочной» судьбе своих книг, но это не особо его волновало. Слишком кипуча была его натура: с писательской деятельности переключался на что-то другое, потом на третье, четвертое. И все выходило у него ладно, красиво, а на удивленные вопросы «как, мол, у него все так спорится?», отвечал словами академика Павлова: «Лучший отдых – перемена деятельности». А от себя уверенно прибавлял: «Если деятельность с любовью, то и сладится все!». И подмигивал при этом так весело, что и сомнений не оставалось – с любовью все получится!
Терпеть не мог Павел Никанорыч одного – уныния. Однажды швырнул в телевизор тапком, когда услышал, как какой-то современный поэт вещал со скучающей миной: «О чем писать? О чем нам говорить? Что наше время может породить? Лишь пустоту и звонкое бездумье».
Обычно спокойный и благодушный Павел Никанорыч побагровел и лицо его выразило две последовательные эмоции: искреннее недоумение и мгновенную ярость.
Тапок, запущенный в телевизионную поэтову физиономию, не достиг цели. Летя по кривой траектории, он совершил жесткую посадку на спине мирно дремлющего кота Александра. Тот был назван так в честь собственной неведомой македонской породы. Так ее охарактеризовал продавец на рынке. Видно уж очень хотелось ему сбагрить испуганного котенка обычного камышового окраса. Ушлый продавец на все лады расписывал мифическую, на ходу сочиненную македонскую породу и Павел Никанорыч, не раздумывая, сунул худенькое тельце за пазуху, а продавцу немедленно отдал 500 рублей, взамен просимых 400! На безмолвный вопрос жены кратко ответил: «Надо же платить за талант! Это ж какая фантазия у человека – на ходу изобрел породу, выдумал ей историю, расписывал достоинства и ни разу не сбился!».
Котенок, испытавший в своей короткой жизни немало превратностей судьбы, был назван в честь великого полководца и в дальнейшем соответствовал громкому имени. Превратился в роскошного шестикилограммового кота и держался с царским достоинством.
Тапок любимого хозяина поверг его в смятение. Он меланхолично подпрыгнул, недоуменно посмотрел на Павла Никанорыча и ушел в другую комнату. К хозяину он не подходил несколько дней, взял обиженную паузу. Павел Никанорыч, души не чаявший в питомце, несколько раз извинялся, но Александр был непреклонен и смягчился только после внушительной порции ухи. За рыбу кот был готов простить даже чёрта!
Но факт оставался фактом – Павел Никанорыч искренне не понимал, как может быть скучно. «О чем писать, о чем писать?» — продолжал ворчать он, вспоминая ненавистного поэта. – «Глаз у людей, что ли нет? Да,ты посмотри вокруг – разве исчезла красота, разве жизнь не богата сюжетами? Конечно, если никого кроме себя, любимого, не видеть, так и писать, пожалуй, не о чем. Да и делать тоже. Такому, конечно, всегда будет скучно, хоть хороводы вокруг води!».
И в подтверждение своих слов приводил случай из собственной жизни. Рассказывал, поигрывая небольшим складным ножиком с коричневой ручкой. Лезвие его было тонким – стерлось от времени, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять – острый, как бритва.
Павел Никанорыч явно гордился им. Будто невзначай поглаживал, несильно упирал мясистый палец в острие, отчего по коже мгновенно расходились красные лучи, складывал и снова выбрасывал лезвие. Нож словно пел в его руке, ладно и ловко ложась в изгибы ладони.
— Настоящий золинген, — хвастливо повторял Павел Никанорыч. – Видите знак – два мальчика? Это фирма такая немецкая – самая лучшая по производству стали. На всех изделиях ставится знак – фигурки двух мальчиков.
Собеседнику приходилось долго вглядываться, прежде он мог разглядеть у основания лезвия полустертые фигурки двух человечков.
— Звилинг, — торжественно произносил Павел Никанорыч, как-то по особенному позванивая последними звуками: ин-нг, инн-нг! Казалось, что в горле бывшего летчика распевается неведомая птица с тонким металлическим голосом. – Звили-инг! Что значит – близнецы! – удовлетворенно припечатывал он слог «цы» и взглядывал на собеседника: «что, мол, каков я?». Собеседнику ничего не оставалось делать, как восторженно ахать. Довольный Павел Никанорыч распускал лучики-морщинки на пухлом лице, предвкушая начало действа. Мизансцена была готова: талантливый актер-рассказчик и благодарный слушатель.
— Фирма знатная, — вздохнув, начинал Павел Никанорыч, — аж, с 18-го века. А началось все не с Близнецов, а с одного Близнеца.Оружейник Кирч в городе Золинген владел торговым знаком «illing» (близнец). И в 1731 году разрешил какому-то своему родственнику пользоваться этим знаком. А тот был смекалистым и, чтобы расширить дело, пригласил в него своего приятеля. И добавил его к знаку. Получился уже не «illing», а zwilling – близнецы. Так и существует этот знак по сей день. Только это все присказка. Сказка впереди.
На этом месте собеседнику надлежало податься корпусом вперед и изобразить на лице напряженное внимание. Ах, как жаждала его щедрая душа рассказчика!
— Случилось мне в самом первом своем отпуске поехать в Нижегородскую область. Было это в 60-х. И, скажу вам, кто не видел октябрь в этих краях – много потерял. Едешь на машине, словно на ковре-самолете летишь. И ковер этот – желтый, зеленый, красный, коричневый, золотой так и горит на солнце. Осины, березы, дубы, липы, рябины – у каждого листа свой оттенок, свой характер. Богатство-то, какое! Дух захватывает от красоты. Вот уж и вправду, «лес, точно терем расписной». А еще вдоль дорог дома деревянные старинные со ставнями, наличниками кружевными, словно платками узорчатыми накрылись. И дома все в разные цвета выкрашены – зеленый, синий, желтый, розовый. Не то что у старообрядцев — те, в основном из цельных бревен дома кладут, а бревна чернеют быстро, и кажутся дома темными и угрюмыми. Другое дело – из досок дом собрать, а потом выкрасить в веселые цвета. На душе радостно. И понимаешь, что не зря именно в этих местах родилось такое чудо как хохломская роспись. А спросИте меня, почему?
— Почему? – покорно вопрошал собеседник.
— А потому, — расцветал улыбкой Павел Никанорыч, что хохлома свой секрет дивный от природы взяла! И каждый цвет в ней – знак! Черный – земля-кормилица, красный и зеленый – жизнь, а золото — свет. Все то, что человек видел вокруг, переводил в узор. А дерево, по которому его наносили – основа всего. Деревянная посуда легкая, теплая, наши предки на деревянных ложках-плошках выросли и здоровыми были. И цари ее не чурались, в почете она была на царском столе. Только вы привыкли видеть хохлому сверкающую, лакированную, переливающуюся так, что аж глазам больно от блеска, а я вот вам сейчас покажу…
С этими словами в Павле Никанорыче вновь просыпался фокусник! Не то из недр шкафа, не то из кармана, не то вообще из воздуха мгновенно извлекалась и ложилась на стол перед собеседником темная маленькая ложка с облупившейся красной краской и почти стертым узором.
Далее выдерживалась театральная пауза, во время которой собеседнику надлежало пристально вглядываться в артефакт. Наконец, Павел Никанорыч торжественно изрекал:
— Такой была хохломская роспись перед самой войной и во время ее. Ни лака, ни ярких красок, ни хорошей обработки. Видите, сколько на ложке сколов и зазубрин? Это значит, что древесину не обработали как следует. Липа ( а вырезают только из нее, потому что самая податливая и мягкая), должна отлежаться года два на открытом воздухе, а потом ее еще на год вымачивают в воде. Только тогда дерево становится нежным как воск. Работать по нему одно удовольствие. И когда вырезают будущую посуду – она еще белая, сырая. Так и называется — «бельё». Это уж потом ее грунтуют, «вопЯт» красной жидкой глиной- вапой, олифят, лудят алюминием и уж только потом по луженому слою кладут узор. А потом запекают в печах. И в них серебристый алюминий сразу становится золотым, а краски узора ярче. А уж потом лакируют, и появляется на свет то чудо, которое вы привыкли видеть. Но в войну какие уж там краски и лак… Самим бы уцелеть. А все-таки люди сберегли древний промысел, не дали ему угаснуть. А досталась мне эта ложка вместе с ножом от попа…
Павел Никанорыч отхлебывал из большой чашки и вещал, словно былинный сказитель:
Так вот, почти все ездили тогда диким образом. А тем более мне, молодому, неженатому еще, недавно окончившему училище, сам Бог велел! А, что?! Приехал, поспрашивал людей на вокзале, кто где сдает комнату или дом, и поехал налегке. И на душе легко – все перед тобой как ладони и думаешь, сколько еще интересных людей встретишь, сколько красоты вокруг увидишь. Когда молод и здоров – кажется, что и мир улыбается тебе.
Сказали мне, что доме номер 4 по улице Демократической хозяин сдает в комнату. Отправился я туда и все диву давался: дома старинные, деревянные, резные, есть и крепкие, есть и ветхие, покосившиеся, а названия улиц все как на подбор революционные: Трудовая, Демократическая, Чкалова, Чапаева.
Добрался до низенького – оконца чуть ли не в землю вросли! – домика, постучался в дверь. Вышел хозяин, и я чуть не отпрыгнул. Поп! Щупленький, горбатый, седенький, хромой. Ряса по земле стелется, а трава около крыльца ему почти по пояс.
Попик словно из допетровских времен выступил – на голове высокая скуфейка и лицо такое строгое, иконописное, востроносое. Спрашивает и упирает на о:
— По какому вопросу пожаловали?
Объясняю все как есть. Он смотрит на меня исподлобья и говорит так, словно тугую шкатулку растворяет – с придыхом.
— Пойдемте, покажу вам комнату. Возьму недорого – 15 рублей устроит вас?
Прикинул я: вроде нормально. Договорились. И тут я заметил, что у него в руках болтается на цепочке вот это самый нож золинген. Не по себе мне стало. А тут еще стемнело и по полу синие тени пролегли. Половицы старые, скрипят, на них синий сумеречный свет и поп этот с ножом так бесшумно двигается, словно плывет. Честно говоря – похолодело у меня внутри. А хозяин, видно, почувствовал, поворачивается ко мне боком, так что одна сторона лица его освещена была, а вторая нет, да еще и подбородок выпятил – ни дать ни взять Иван Грозный, только низенький, хромой и горбатый! Я напрягся, а он вдруг улыбнулся и снова как тугую шкатулку приоткрыл:
— Нож заметили? Вы не бойтесь. Это память и утешение мое. Друг, можно сказать. — И ласково погладил нож по рукоятке. Садитесь, сейчас чай будем пить. Сахара, извините, нет, не употребляю, а вот мед настоящий липовый – сколько угодно. У меня позади дома улья стоят, так что мед свой.
Говорит так, а сам достает бесшумно самовар маленький, посуду. И тут я только заметил, что посуда у него деревянная. Кроме самовара железного, конечно. Чашки, ложки, тарелки, миски, даже чайник заварочный – все из дерева и украшено вот таким узором. – Павел Никанорыч указал на темную ложку.
Самовар засвистел. Хозяин ополоснул заварочный чайник, всыпал щепоть серого чая с какими-то травами, и накрыл крышкой и полотенцем. Потом куда-то вышел и вскоре вернулся с большой миской меда.
— Угощайтесь. — Он придвинул ко мне чашку с чаем и тарелку. – Берите мед.
Сам он пил мелкими глотками и на висках его выступили бисеринки пота.
— Нож этот мне от ребенка достался. Убило его на моих глазах. Не пожалел меня Бог — довелось увидеть такое… В июне 43-го, когда Горький(1) бомбили и удары пришлись по Сормовскому району (немцы все к заводу «Красное Сормово» подступались) в деревне Монастырка сгорели 80 домов. Разом. Пепелище одно было — черное, страшное.
Мне по сану и вере милостивым полагается быть и милосердие в других будить, но, ей-Богу, никакого милосердия тогда я в своей душе не чувствовал, а только роптал на судьбу, что меня горбом наделила и из-за этого я к военной службе непригоден. И только молиться могу, чтобы отвел Бог беду от нас.
Проходил я как-то мимо этого пепелища и вижу – стоит девочка лет четырех. В белой рубашке и легкой юбочке – лето ведь. Видно, место, где она стояла – было ее домом когда-то и она помнила об этом. У детей память короткая, но крепкая. Не всё запомнят, но если что зацепится в их голове – так уже намертво.
Как забрела сюда и откуда – неведомо. Может, спаслась случайно, гостила у кого-то, а как тут сейчас оказалась – Бог ее знает. И пока я со своим горбом и хромой ногой к ней ковылял, как около нее снаряд разорвался. Я на землю упал, а когда поднялся, ее уже не было. Девочки …
Доковылял я к этому месту, смотрю — в ручке зажата эта самая ложка – видно, ее была. И еще ножик вот этот немецкий. Наверно, кто-то из немцев обронил, а она нашел, и таскала с собой как игрушку. Открыть не смогла, по счастью. Хотя какое уже счастье…
И что удивительное – до этого Бог миловал – смерть вот так близко видеть не приходилось. А тут увидел и хоть бы что. Ни слезы, ни крика. Разжал я ей пальчики, взял ложку и ножик. И спокоен был. Никакого страха не было, что снова может снаряд разорваться и уже меня не будет.
А когда уже дома разглядел на этом ножике две детские фигурки, то зарыдал в голос. И все Бога спрашивал: «Отчего, Ты дозволяешь, чтобы на оружии детские фигурки были, а живые дети погибают? Отчего, Господи? Какой у тебя в том резон?»
Не подобают священнику такие мысли. Не должен он сомневаться в справедливости Божьего промысла. Но я сомневался. Всей душой сомневался, всем существом своим. И не жалел об этом.
А потом, уже после победы дал себе слово приумножать, сколько хватит сил красоту на земле. Научился по дереву вырезать, киноварью и сажей узор наносить. Только вот блеска нет, ну, да и без него посуда в дело годится.
Ложечку девочки той я сохранил. Не касаюсь ее. Так и лежит у меня в дальнем углу комода. А ножиком и по сей день работаю. Вырезаю в свободное от служб время.
— Помирились с Богом? – спросил я.
Он подумал немного и скривился в улыбке:
— Я же Ему всю жизнь посвятил, куда от этого деваться… Смиряешься потихоньку. Только честно скажу, и Он это знает – не понимаю все равно. Как это можно, чтобы дети вот так ни за что ни про что погибали? Зачем же тогда им жизнь дарить? Сколько умных книг прочел, все пытался сердце свое утИшить, но не понимаю. А теперь уже и поздно пытаться. Стар стал.
Он помолчал и вдруг спохватился.
— Да я вас заговорил совсем. – Ложитесь, отдыхайте. Белье я вам свежее постелил, полотенце на спинке кровати, а умывальник и все прочее во дворе, если вдруг ночью понадобится. А я к себе пойду.
И что-то мне подсказывало, что не уснет он до утра, будет истово молиться перед образАми и искать ответа у них, у лохматой ели у окна, у звезды в небе – «За что, Господи, погибают дети?» И не образА, ни ель, ни звезда не дадут ответа.
А наутро солнце наяривало вовсю!
— Вставайте, вставайте, — благодушно ворчал попик, и мне даже показалось, что ряса его стала светлее. – Умывайтесь, сейчас завтракать будем, я рыбы нажарил, лепешек испек, орехи есть, яблоки, мед. У нас места привольные, и Бог осени послал теплой. Успеете по лесу побродить, на красоту нашу полюбоваться. Никогда такого яркого октября не было, как сейчас.
Видно было, что он искренне радуется постояльцу: соскучился по разговорам. Прямо как я сейчас – хитро щурился Павел Никанорыч . – И только об одном сокрушался, что я молодой, и мне с ним скучно будет. – А я любил его слушать. Занятный был человек. И вырезать по дереву он меня научил. Все говорил: «утешением будет. Красоту создавать – в радость»…
Тут Павел Никанорыч надолго умолкал и выпускал в потолок кольцо дыма. И смотрел, как оно увеличивалось, разрывалось и исчезало в воздухе. Собеседнику надлежало почтительно молчать.
— Дружили мы потом с этим попом – как бы невзначай продолжал Павел Никанорыч. – Переписывались. Многому он меня научил. Как к жизни правильно относиться. Что ценить, а что забыть.
А спустя тринадцать лет получаю я бандероль с адресом: ул. Демократическая, дом 6. И подписано какой-то Еленой Васильевной. Открываю, а внутри письмо и тугой сверток.
В письме написано: «Я соседка вашего знакомого. Батюшка наш завещал вам это послать. Святой души человек был. Всем помогал. Дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном» А в свертке — ложечка деревянная, темная, вся в сколах и зазубринах, ножик этот золинген и записка:
«Это самое дорогое, что у меня есть. Вам — на память и в утешение. Сберегите. Храни вас Господь».
Вот и храню с тех пор. И в жизни стараюсь во всем красоту искать. Жизни ведь, в любой момент может не быть. Так зачем же ее раньше времени убивать, судьбу дразнить? Хотя, конечно, унылому все скучно. Ему и писать не о чем, и радоваться нечему, и делать нечего от скуки. Только жить-то тогда зачем? Вы согласны со мною? Не отмалчивайтесь! Скажите, согласны?!
Собеседнику ничего не оставалось, как кивнуть. Мол, действительно, зачем?
И Павел Никанорыч торжествовал. Его правота всегда была незыблемой! Ну, а что против правоты возразишь?..
Ляман Багирова
1. Горький — ныне Нижний Новгород
художник Леонид Баранов
фото взято с сайта fishki.net












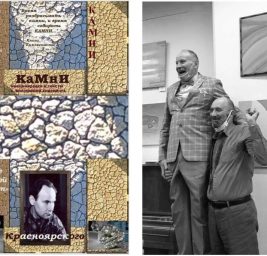








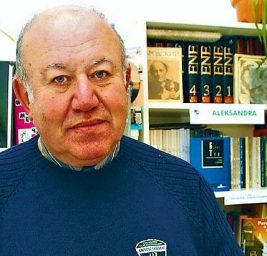






комментария 2
игаш
19.10.2022Прекрасный жизнеутверждающий рассказ! Заставляет задуматься!
Инга
19.10.2022Удивительно теплый и добрый рассказ, и всё в нём — правда жизни! Спасибо, дорогая Ляман Сархадовна, за Ваше творчество, талантливое, живое, яркое, пропущенное через Ваше доброе сердце! Помимо художественных достоинств, Ваши рассказы всегда несут интересную информацию , а герои — душевную красоту !